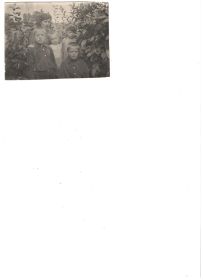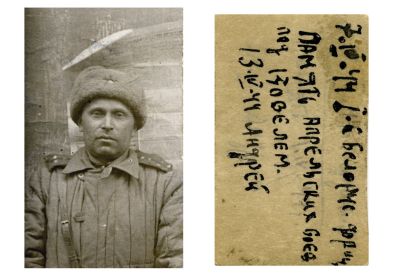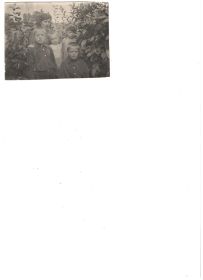Андрей
Иванович
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
История солдата
Мой дед, Кочергин Андрей Иванович родился 13 декабря 1904 г. в селе Обшаровка Самарской губернии.
С 1927 по 1936 год служил на погранзаставе в местечке Заславль (погранотряд находился в г. Мозырь), на границе Белорусской ССР и Польши. В Красную Армию пошёл по комсомольскому призыву в 1927 г. В 1930 г.г. – заместитель начальника погранзаставы по политчасти 15-го погранотряда НКВД Белорусского Военного округа.
Далее службу продолжил в должности уполномоченного НКВД по Белорусской ССР г. Минск и г. Мозырь. В 1936 году демобилизовался в звании старшего лейтенанта госбезопасности.
Дед рассказывал, что в начале службы у него был такой случай, он задержал нарушителя границы, шпиона, который, как оказалось, в прошлом был офицер царской армии, а после Гражданской войны работал на польскую или английскую разведку. Он регулярно переходил с заданиями границу туда и обратно, но поймать его не могли.
И вот в один день заставу подняли в ружьё, советская агентура доложила, что шпион будет переходить границу и придёт в один из приграничных хуторов.
Дед сказал, что их отряд расставили в секреты по хуторам. И вот, говорит, уже под утро слышу чьи-то шаги, в сумерках виднеется чья-то фигура, идет, стараясь не шуметь. Я тихонько за ним. Человек дошёл до одной хаты, и стал тихонько скрестись в окно. Тут я сзади тихо подкрался и плашмя его винтовкой ударил, сшиб с ног, придавил. И кричу другому секрету, зову на помощь. Подбежал другой красноармеец, мы его вдвоём скрутили и отконвоировали в отряд.
Деду за поимку особо важного шпиона объявили отпуск домой, и наградили хромовыми сапогами.
…А шпион тот позже сбежал. Он находился на территории погранотряда в одиночной камере, в ожидании, когда за ним приедет конвой и отвезёт его в райотдел ГПУ. Попросился в туалет на улицу, обманул часового – сказал, чтобы тот постоял снаружи, мол, стесняюсь. Пролез сквозь дыру туалета, по выгребной яме за забор заставы. Когда хватились, его и след простыл.
Объявили облаву, перекрыли границу, заходили во все дворы, проверяли все хутора и все стоящие стога сена – бойцы протыкали штыками. Не нашли.
Позже, кто-то из крестьян сказал пограничникам, что нашёл возле стога кровь. Значит, шпион прятался в этом стоге, красноармеец ранил его штыком, но шпион не выдал себя и позже – ушёл снова через границу.
Когда началась Великая Отечественная война, дед работал в НКВД на охране золотых приисков на Южном Урале в г. Миасс. Конвоировал ценные грузы. У него была «бронь» от призыва в действующую армию. Было трое маленьких детей, но в первые же дни войны он пошёл в военкомат и попросился на фронт.
В октябре 1941 г. был призван на службу в действующую армию. Его 377-я дивизия формировалась в г. Курган, и оттуда убыла в состав 59-й армии Волховского фронта на защиту Ленинграда. Служил на должности политрука роты. В июне 1942 г. был первый раз тяжело ранен, в Октябре того же года по излечению вернулся в строй, должность в принципе та же, но называлась иначе - заместитель командира роты по политической части.
С июня 1943 года после очередного ранения службу продолжил в 751-ом (Торуньском) стрелковом полку, 165-ой (Седлецкой) стрелковой дивизии 8-й армии Волховского фронта, в должности заместителя командира по политической части 2-го стрелкового батальона.
В августе 1944 года в боях под г. Ковель был тяжело ранен, отправлен в тыловой эвакогоспиталь №1722 в г. Челябинск. В феврале 1945 г. Вернулся в строй в должности заместителя начальника эшелона по политчасти 7-го учебного танкового полка 7-й учебной танковой бригады Уральского военного округа. Войну закончил в звании капитана.
За время службы был представлен к наградам: Орден Отечественной войны I степени; Орден Отечественной войны II степени; Орден Отечественной войны II степени; Орден боевого Красного знамени; Орден Красной Звезды; Медаль «За боевые заслуги».
Некоторые рассказы моего деда – Кочергина Андрея Ивановича я запомнил и записал.
Был в его фронтовой биографии такой случай. Это был 1942 год и тогда, как говорил дед, мы ещё учились воевать. Положение было на фронтах отчаянное, враг рвался к Ленинграду, стремясь замкнуть кольцо, отбросить советские войска от Ладоги и прервать сообщение с Большой землёй. Волховский фронт имел задачу – любой ценой не дать полностью блокировать осаждённый город, и отодвинуть фронт на Запад, прорвать кольцо блокады.
Их участок фронта в очередной раз получил приказ наступать. В бой была брошена его 377-я дивизия с поддержкой бригады новеньких только что прибывших «тридцатьчетвёрок».
Танки пошли вперёд, и как только вышли на открытое пространство, то почти все были уничтожены огнём замаскированной вражеской артиллерии и самоходок. Наступление захлебнулось.
Командир бригады, не дожидаясь военного трибунала, застрелился. Ошибкой было то, что не была проведена разведка. В то время, часто пытались атаковать «в лоб», не считаясь с потерями.
Батальону, в котором служил мой дед, была поставлена задача – уничтожить вражеские огневые точки. Он собрал добровольцев, около роты. Они скрытно, ночью пробрались на немецкие позиции и бутылками с зажигательной смесью сожгли самоходки, орудия забросали гранатами. За тот боевой выход дед был представлен командиром полка (или дивизии?) к ордену Красного знамени, но его не получил, т.к. вскоре получил назначение куда-то в другое место и убыл. А, как он потом узнал, орден «за него» получил кто-то другой.
А вот другой случай: это был уже 1943 год. Наши войска наступали и гнали немца на Запад. Дивизии после нескольких дней наступления нужно было определиться, где соседи по фронту, а где обороняющиеся немецкие части. Как говорил дед, в наступлении такое часто бывало: где-то наши части вырвутся вперёд, а где-то немцы неожиданно могут выйти в тыл нашим.
Их батальону была поставлена задача – провести разведку боем. Такая разведка делается в случаях, когда сроки поджимают и на обычную скрытую разведку, которая может затянуться, нет времени.
Задача – вызвать огонь замаскированных вражеских огневых точек, определить их положение, определить положение линии вражеской обороны.
Дед вызвал добровольцев. Как он рассказывал: обычно я говорил – коммунисты и комсомольцы – шаг вперёд. И никогда отказов не было. Наоборот, часто бывало, что вызывалось больше людей, чем нужно.
В разведку под руководством Кочергина А.И. пошло около взвода бойцов. Рассказывал, что вооружили нас хорошо: дали 2 ручных пулемёта ДП, большинство бойцов были вооружены автоматами, взяли много гранат.
В ходе разведки они столкнулись с прорывающимся к своим подразделением немцев, численностью более роты. Взвод занял оборону, завязался жестокий бой. Появилось убитые и раненые, был убит один пулемётчик. Дед взял его пулемёт. Говорит, что на месте оставаться было нельзя – силы были слишком неравные. Принял решение прорываться, сообщил бойцам, подготовились, поднялся сам и поднял бойцов вперёд.
Видимо немцы не готовы были умирать, и отошли к своим, расступившись и обойдя наш взвод.
Дед рассказывает бегу, стреляю, кричу, потом чувствую, нога слабая стала, подгибается, упал. Смотрю, а в ноге дыра, спереди небольшая, а сзади большущий кусок вырвало. После этого ранения, несколько месяцев провёл в госпитале. Восстановившись, снова попросился на фронт.
Последний раз его тяжело ранило в боях за освобождение города Ковеля (Белоруссия). Можно сказать, чудо спасло ему жизнь. Во время боя взрывом деда завалило землёй. Сам он подняться не мог – контузия и ранение было тяжёлое: осколки вошли в спину и пробили лёгкое. После боя, когда санбригады собирали с поля убитых и раненых его сначала хотели грузить к убитым, т.к. он не подавал признаков жизни. Но на его счастье рядом оказалась санинструктор, которая его хорошо знала – это была жена его боевого друга, командира батальона – майора Вольвача. Она увидела его на поле боя, среди убитых, узнала. В надежде, что дед всё-таки жив, приставила зеркальце к губам деда, и на нём было еле заметное дыхание.
Был ещё такой случай, мне его рассказал мой отец, а ему рассказывал дед Андрей. На войне нередко бывало так, что у фронта не было явной, видимой линии. Где мы, а где немцы, противник. И в такой обстановке разведкам обеих воюющих сторон было удобно делать вылазки в тыл противника. И вот как раз такой случай. Подразделение, в котором воевал мой дед заняло рубеж на передовой, знали, что впереди перед ними немцы, но чёткой линии обороны нет. Велика вероятность, что фашистские разведгруппы захотят проходить к нам. Кочергину А.и. была поставлена задача выставить боевое охранение.
Дед рассказывал так – был у меня один сержант хороший, опытный, мы с ним уже много прошли вместе. Вечером, я взял его, и ещё примерно с отделение бойцов понадёжней, тоже опытных. И разместил их на переднем крае, скрытно. Взяли ручной пулемёт или два. Замаскировались в таком месте, где немцы вероятнее всего могут пойти, ждём. И вот уже поздно ночью, как раз туман встал, видим, крадутся немцы, их разведка. Мы их подпустили поближе и всех расстреляли там, положили.
Хочу привести ещё один из рассказов деда о войне.
Это было зимой 1942 года, на Волховском фронте наши войска перешли в наступление, перед 377-й дивизией, в которой служил мой дед, была поставлена задача форсировать Волхов и занять его западный берег.
Задача была сложная, т.к. этот берег был выше, и кроме того за 2,5 года немцы сильно укрепились, врылись в землю, вкопали орудия и танки.
Дивизия после нескольких дней наступательных боёв подошла к Волхову уже сильно обескровленная, личного состава в подразделениях было мало, артиллерии не было почти совсем. А приказ был, и надо было наступать, т.к. все остальные соседи слева и справа также начали наступление.
Наступали по льду, немцы били по наступавшим как в тире, и роты, оставляя на льду убитых, откатывались раз за разом назад.
Наступление захлебнулось. Тогда командование фронта прислало в поддержку бригаду морской пехоты. Немцы называли их «шварце тот» - чёрная смерть за то, что моряки носили чёрную форму, никогда не отступали и были беспощадны в бою.
Морпехи пошли вперёд, за ними – пехота 377-й дивизии. Стрелять из ручного оружия пересекая лёд, было бесполезно, и моряки шли через реку молча строем, обходя полыньи. Немцы подпустили поближе и начали косить из пулемётов. А воины перешли на бег, падали один за другим, живые и раненые продолжали наступать, никто не повернул назад.
Немцы не выдержали, дрогнули, и побежали из первой линии окопов. На их плечах морпехи и пехота ворвались в траншеи, началась рукопашная.
От той бригады в полторы тысячи человек в живых осталась едва ли сотня.
Дед вспоминал этот случай каждый раз 9-го мая. Рассказывал и плакал. Потом просил спеть ему песню «Дрались по геройски, по-русски два друга в пехоте морской, один паренёк был калужский, другой паренёк костромской…» и пел с нами. А мы пели и тоже не могли сдержать слёз.
Мы и сейчас каждый раз собираемся семьёй на 9 мая и поём эту песню.
Боевой путь
Воспоминания
Мой дед, Кочергин Андрей Иванович родился 13 декабря 1904 г. в селе Обшаровка Самарской губернии. С 1927 по 1936 год служил на погранзаставе в местечке Заславль (погранотряд находился в г. Мозырь), на границе Белорусской ССР и Польши. В Красную Армию пошёл по комсомольскому призыву в 1927 г. В 1930 г.г. – заместитель начальника погранзаставы по политчасти 15-го погранотряда НКВД Белорусского Военного округа. Далее службу продолжил в должности уполномоченного НКВД по Белорусской ССР г. Минск и г. Мозырь. В 1936 году демобилизовался в звании старшего лейтенанта госбезопасности. Дед рассказывал, что в начале службы у него был такой случай, он задержал нарушителя границы, шпиона, который, как оказалось, в прошлом был офицер царской армии, а после Гражданской войны работал на польскую или английскую разведку. Он регулярно переходил с заданиями границу туда и обратно, но поймать его не могли. И вот в один день заставу подняли в ружьё, советская агентура доложила, что шпион будет переходить границу и придёт в один из приграничных хуторов. Дед сказал, что их отряд расставили в секреты по хуторам. И вот, говорит, уже под утро слышу чьи-то шаги, в сумерках виднеется чья-то фигура, идет, стараясь не шуметь. Я тихонько за ним. Человек дошёл до одной хаты, и стал тихонько скрестись в окно. Тут я сзади тихо подкрался и плашмя его винтовкой ударил, сшиб с ног, придавил. И кричу другому секрету, зову на помощь. Подбежал другой красноармеец, мы его вдвоём скрутили и отконвоировали в отряд. Деду за поимку особо важного шпиона объявили отпуск домой, и наградили хромовыми сапогами. …А шпион тот позже сбежал. Он находился на территории погранотряда в одиночной камере, в ожидании, когда за ним приедет конвой и отвезёт его в райотдел ГПУ. Попросился в туалет на улицу, обманул часового – сказал, чтобы тот постоял снаружи, мол, стесняюсь. Пролез сквозь дыру туалета, по выгребной яме за забор заставы. Когда хватились, его и след простыл. Объявили облаву, перекрыли границу, заходили во все дворы, проверяли все хутора и все стоящие стога сена – бойцы протыкали штыками. Не нашли. Позже, кто-то из крестьян сказал пограничникам, что нашёл возле стога кровь. Значит, шпион прятался в этом стоге, красноармеец ранил его штыком, но шпион не выдал себя и позже – ушёл снова через границу. Когда началась Великая Отечественная война, дед работал в НКВД на охране золотых приисков на Южном Урале в г. Миасс. Конвоировал ценные грузы. У него была «бронь» от призыва в действующую армию. Было трое маленьких детей, но в первые же дни войны он пошёл в военкомат и попросился на фронт. В октябре 1941 г. был призван на службу в действующую армию. Его 377-я дивизия формировалась в г. Курган, и оттуда убыла в состав 59-й армии Волховского фронта на защиту Ленинграда. Служил на должности политрука роты. В июне 1942 г. был первый раз тяжело ранен, в Октябре того же года по излечению вернулся в строй, должность в принципе та же, но называлась иначе - заместитель командира роты по политической части. С июня 1943 года после очередного ранения службу продолжил в 751-ом (Торуньском) стрелковом полку, 165-ой (Седлецкой) стрелковой дивизии 8-й армии Волховского фронта, в должности заместителя командира по политической части 2-го стрелкового батальона. В августе 1944 года в боях под г. Ковель был тяжело ранен, отправлен в тыловой эвакогоспиталь №1722 в г. Челябинск. В феврале 1945 г. Вернулся в строй в должности заместителя начальника эшелона по политчасти 7-го учебного танкового полка 7-й учебной танковой бригады Уральского военного округа. Войну закончил в звании капитана. За время службы был представлен к наградам: Орден Отечественной войны I степени; Орден Отечественной войны II степени; Орден Отечественной войны II степени; Орден боевого Красного знамени; Орден Красной Звезды; Медаль «За боевые заслуги». Некоторые рассказы моего деда – Кочергина Андрея Ивановича я запомнил и записал. Был в его фронтовой биографии такой случай. Это был 1942 год и тогда, как говорил дед, мы ещё учились воевать. Положение было на фронтах отчаянное, враг рвался к Ленинграду, стремясь замкнуть кольцо, отбросить советские войска от Ладоги и прервать сообщение с Большой землёй. Волховский фронт имел задачу – любой ценой не дать полностью блокировать осаждённый город, и отодвинуть фронт на Запад, прорвать кольцо блокады. Их участок фронта в очередной раз получил приказ наступать. В бой была брошена его 377-я дивизия с поддержкой бригады новеньких только что прибывших «тридцатьчетвёрок». Танки пошли вперёд, и как только вышли на открытое пространство, то почти все были уничтожены огнём замаскированной вражеской артиллерии и самоходок. Наступление захлебнулось. Командир бригады, не дожидаясь военного трибунала, застрелился. Ошибкой было то, что не была проведена разведка. В то время, часто пытались атаковать «в лоб», не считаясь с потерями. Батальону, в котором служил мой дед, была поставлена задача – уничтожить вражеские огневые точки. Он собрал добровольцев, около роты. Они скрытно, ночью пробрались на немецкие позиции и бутылками с зажигательной смесью сожгли самоходки, орудия забросали гранатами. За тот боевой выход дед был представлен командиром полка (или дивизии?) к ордену Красного знамени, но его не получил, т.к. вскоре получил назначение куда-то в другое место и убыл. А, как он потом узнал, орден «за него» получил кто-то другой. А вот другой случай: это был уже 1943 год. Наши войска наступали и гнали немца на Запад. Дивизии после нескольких дней наступления нужно было определиться, где соседи по фронту, а где обороняющиеся немецкие части. Как говорил дед, в наступлении такое часто бывало: где-то наши части вырвутся вперёд, а где-то немцы неожиданно могут выйти в тыл нашим. Их батальону была поставлена задача – провести разведку боем. Такая разведка делается в случаях, когда сроки поджимают и на обычную скрытую разведку, которая может затянуться, нет времени. Задача – вызвать огонь замаскированных вражеских огневых точек, определить их положение, определить положение линии вражеской обороны. Дед вызвал добровольцев. Как он рассказывал: обычно я говорил – коммунисты и комсомольцы – шаг вперёд. И никогда отказов не было. Наоборот, часто бывало, что вызывалось больше людей, чем нужно. В разведку под руководством Кочергина А.И. пошло около взвода бойцов. Рассказывал, что вооружили нас хорошо: дали 2 ручных пулемёта ДП, большинство бойцов были вооружены автоматами, взяли много гранат. В ходе разведки они столкнулись с прорывающимся к своим подразделением немцев, численностью более роты. Взвод занял оборону, завязался жестокий бой. Появилось убитые и раненые, был убит один пулемётчик. Дед взял его пулемёт. Говорит, что на месте оставаться было нельзя – силы были слишком неравные. Принял решение прорываться, сообщил бойцам, подготовились, поднялся сам и поднял бойцов вперёд. Видимо немцы не готовы были умирать, и отошли к своим, расступившись и обойдя наш взвод. Дед рассказывает бегу, стреляю, кричу, потом чувствую, нога слабая стала, подгибается, упал. Смотрю, а в ноге дыра, спереди небольшая, а сзади большущий кусок вырвало. После этого ранения, несколько месяцев провёл в госпитале. Восстановившись, снова попросился на фронт. Последний раз его тяжело ранило в боях за освобождение города Ковеля (Белоруссия). Можно сказать, чудо спасло ему жизнь. Во время боя взрывом деда завалило землёй. Сам он подняться не мог – контузия и ранение было тяжёлое: осколки вошли в спину и пробили лёгкое. После боя, когда санбригады собирали с поля убитых и раненых его сначала хотели грузить к убитым, т.к. он не подавал признаков жизни. Но на его счастье рядом оказалась санинструктор, которая его хорошо знала – это была жена его боевого друга, командира батальона – майора Вольвача. Она увидела его на поле боя, среди убитых, узнала. В надежде, что дед всё-таки жив, приставила зеркальце к губам деда, и на нём было еле заметное дыхание. Хочу привести ещё один из рассказов деда о войне. Это было зимой 1942 года, на Волховском фронте наши войска перешли в наступление, перед 377-й дивизией, в которой служил мой дед, была поставлена задача форсировать Волхов и занять его западный берег. Задача была сложная, т.к. этот берег был выше, и кроме того за 2,5 года немцы сильно укрепились, врылись в землю, вкопали орудия и танки. Дивизия после нескольких дней наступательных боёв подошла к Волхову уже сильно обескровленная, личного состава в подразделениях было мало, артиллерии не было почти совсем. А приказ был, и надо было наступать, т.к. все остальные соседи слева и справа также начали наступление. Наступали по льду, немцы били по наступавшим как в тире, и роты, оставляя на льду убитых, откатывались раз за разом назад. Наступление захлебнулось. Тогда командование фронта прислало в поддержку бригаду морской пехоты. Немцы называли их «шварце тот» - чёрная смерть за то, что моряки носили чёрную форму, никогда не отступали и были беспощадны в бою. Морпехи пошли вперёд, за ними – пехота 377-й дивизии. Стрелять из ручного оружия пересекая лёд, было бесполезно, и моряки шли через реку молча строем, обходя полыньи. Немцы подпустили поближе и начали косить из пулемётов. А воины перешли на бег, падали один за другим, живые и раненые продолжали наступать, никто не повернул назад. Немцы не выдержали, дрогнули, и побежали из первой линии окопов. На их плечах морпехи и пехота ворвались в траншеи, началась рукопашная. От той бригады в полторы тысячи человек в живых осталась едва ли сотня. Дед вспоминал этот случай каждый раз 9-го мая. Рассказывал и плакал. Потом просил спеть ему песню «Дрались по геройски, по-русски два друга в пехоте морской, один паренёк был калужский, другой паренёк костромской…» и пел с нами. А мы пели и тоже не могли сдержать слёз. Мы и сейчас каждый раз собираемся семьёй на 9 мая и поём эту песню.