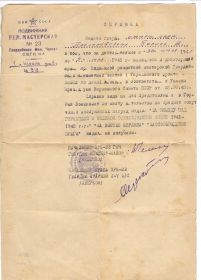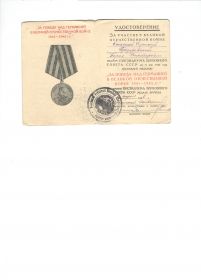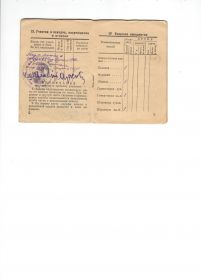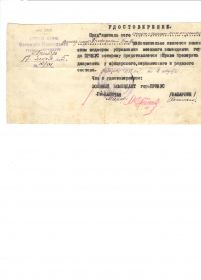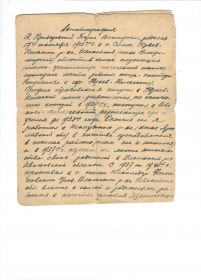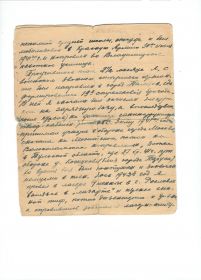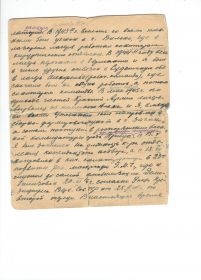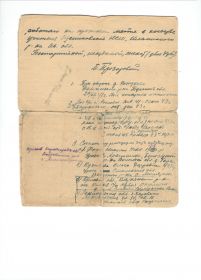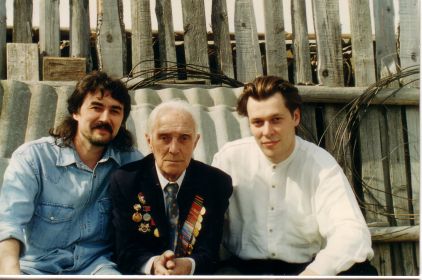Борис
Викторович
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
История солдата
Прозоровский Борис Викторович - мой дед. Он прожил невероятную жизнь. На его долю выпали все ужасы ХХ века - революции, репрессии, войны, перестройки. Он трижды должен быть умереть, но прожил 92 года.
Осенью 1936 года Борис, съев немытое яблоко, тяжело заболел брюшным тифом, едва не умер. К счастью, молодой организм справился с болезнью. Но вскоре молодого директора сельской школы ждали новые, несравненно более тяжёлые испытания.
Будучи арестованным в 1937 году в возрасте 24-х лет по обычному тогдашнему нелепому обвинению, Б.В. Прозоровский в 1938 году был приговорён к расстрелу и месяц ожидал приведения приговора в исполнение. Однако – редчайший случай для эпохи большого террора – приговор отменили, и Борис Викторович, просидевший в тюрьмах Рыбинска и Ярославля больше года, вышел на свободу.
В июле 1941 года Б.В. Прозоровский был мобилизован в действующую армию. Из призванных на фронт в самом начале Великой Отечественной войны до её конца дожили очень и очень немногие. Однако Борису Викторовичу повезло и здесь – он увидел Победу.
27 декабря 1941 года в боях под Москвой, будучи тяжело контужен разорвавшимся рядом снарядом, он попал в немецкий плен. Миллионы наших соотечественников, оказавшиеся в годы войны в плену, погибли в концлагерях от голода, холода, непосильного труда, были расстреляны, сожжены в газовых камерах. За три с половиной года, проведённых в немецких лагерях, Борис Викторович многократно находился на грани жизни и смерти. И опять ему повезло. Пройдя через шесть концлагерей – по мере отступления III Рейха на запад, от Смоленской области до Германии, – он уцелел.
Многие наши военнопленные, не пройдя проверку после освобождения из немецких лагерей, на долгие годы оказывались узниками уже наших советских лагерей. К счастью, и эта чаша миновала Бориса Викторовича. Осенью 1945 года родители, жена и дети обняли его, вернувшегося для них буквально с того света.
Несмотря на трагические обстоятельства жизни, судьба Бориса Викторовича сложилась счастливо. Без малого 55 лет работы сельским учителем и огромное количество учеников, многие из которых стали известными. Почти столько же времени отдано любимой живописи. Долгая сыновняя жизнь: Борис Викторович пережил свою маму Надежду Николаевну Прозоровскую, которую очень чтил, всего на шесть лет. И безусловное счастье – 70 лет вместе с редким по женской и человеческой красоте человеком, с великой труженицей супругой Александрой Ивановной...
В 2013 году к 100-летию со дня рождения Прозоровского Б.В. вышла книга воспоминаний
П 78 Борис Викторович Прозоровский: судьба и жизнь/ Ред.-сост. А.В. Соловьева.-Кострома: ДиАр, 2013.-480 с.: 32л. ил.). ISBN 978-5-93645-043-3,
которую полностью можно прочитать здесь: http://mir.k156.ru/pr/pr.php
Боевой путь
31 июля 1941 г. Мобилизован в ряды Советской армии. Владимирское пехотное училище.
9 ноября 1941 г. В звании ст. сержанта отправлен на фронт в г. Тамбов, в 19-ю стрелковую бригаду.
Зима 1941 г. Участие в обороне Москвы на Можайском и на Волоколамском направлениях.
27 декабря 1941 г. При обороне деревни Кожухово Калужской области был контужен и захвачен немцами в плен.
28 января 1942 г. Извещение 19-й отдельного батальона связи 19-й стрелковой бригады о Б.В. Прозоровском как пропавшем без вести.
Январь 1942 г. Лагерь военнопленных №130 в г. Рославле Смоленской области.
Октябрь 1943 г. Лагерь военнопленных в г. Барановичи.
Январь 1944 г. Лагерь военнопленных в г. Вильно.
Август 1944 г. Переселенческий лагерь 4В и 4С в Судетской области, города Теплиц и Мюльберг.
Октябрь 1944 г. - конец апреля 1945 г. Рабочая команда Шенфельд.
10 мая 1945 г. Сборно-формировочный пункт в г. Заган.
15 мая 1945 г. Зачислен на должность командира отделения комендантского надзора военной комендатуры г. Прибуса.
12 июля 1945 г. Зачислен на должность санинструктора в 23-ю Подвижную ремонтную мастерскую Гвардейских миномётных частей 1 Украинского фронта.
01 ноября 1945 г. Представлен к награждению медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1945-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги».
20 ноября 1945 г. Демобилизован.
01 апреля 1946 г. Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
11 марта 1985 г. Награжден орденом Отечественной войны II степени.
Воспоминания
Зонтиков Николай Александрович, автор историко-биографического очерка о Б.В. Прозоровском, пишет:
Борис Викторович Прозоровский родился 17 сентября 1913 года в селе Сима Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии в семье главы местной полиции Виктора Васильевича и земской учительницы Надежды Николаевны Прозоровских. Через четыре дня состоялось его крещение в Богоявленском храме села Сима. Таинство крещения совершил родной дед новорождённого – священник о. Николай Молчанов. Восприемниками, т.е. его крестными родителями, были князь Борис Александрович Голицын и его сестра княжна Татьяна Александровна Голицына. 1 сентября 1919 года шестилетний Боря Прозоровский пошёл в первый класс начальной школы в Маркове, где его мать работала учительницей. Борис проучился в Марковской школе четыре года. В пятый класс его не приняли из-за «малолетства» – он окончил 4-й класс в девять лет. В 1924 году он продолжил учёбу в советской школе 2-й ступени в Симе, где проучился четыре года.
В 1928 году Борис поступил в Юрьев-Польскую школу 2-й ступени с педагогическим уклоном. В старшем классе этой школы готовили учителей для начальных школ.
В 1929 году Борис окончил школу и поступил сразу на 3-й курс школьного отделения Иваново-Вознесенского педагогического техникума. В конце 1930 года Бориса исключили из техникума «за соцпроисхождение».
Однако помогла наша вечная нехватка кадров для села. Так как Борис являлся без двух минут педагогом, то он смог устроиться на работу в сельской местности. 1 марта 1931 года он был назначен заведующим и учителем начальной школы в д. Лемехово Некоузского района Ивановской области (бывший Кашинский уезд Тверской губернии). В июле 1931 года Борису удалось добиться восстановления в педтехникуме (на заочном отделении). 11 июля 1932 года он получил удостоверение об окончании Ивановского педтехникума с квалификацией «педагог школы 1-й ступени и 1-го концентра ФЗС* и ШКМ».
* ФЗС – фабрично-заводская семилетка.
ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОЙ ГОД
В Лемехове Борис Викторович проработал один год. 15 февраля 1932 года Некоузский РОНО перевёл его в с. Бекрень в школу крестьянской молодёжи (ШКМ) учителем физики, химии и биологии. 18 августа того же года он стал директором Бекренской неполной средней школы (НСШ) – бывшей ШКМ.
В Бекрени Борис Викторович прожил более пяти лет, и здесь же он познакомился со своей будущей женой – Александрой Ивановной Смирновой. Молодые люди полюбили друг друга и 15 июля 1936 года вступили в законный брак. Борису Викторовичу было тогда 22 года, Александре Ивановне – 19 лет.
Начался 1937 год. Чекисты стали выявлять «шпионско-повстанческие группы» – на предприятиях, в колхозах, в учреждениях. Одна из таких групп вскоре обнаружилась и в Бекренской школе. Жертвой его, как директор школы, стал и Борис Викторович. В июне 1937 года он был исключён из ВЛКСМ* с формулировкой «за сокрытие социального происхождения и политическую беспечность».. Человек, исключённый из комсомола, не мог руководить советской школой, и 24 августа 1937 года Б.В. Прозоровский был снят с должности директора Бекренской школы.
Ему ничего не оставалось, как покинуть Бекрень, где прошли пять лет его жизни, и переехать к родителям в Николо-Дор. Приказом заведующей Ильинским РОНО Макаровой Б.В. Прозоровский с 3 сентября 1937 года был назначен преподавателем физики, химии, географии и исполняющим обязанности помощника директора по учебной части Щенниковской неполной средней школы.
Однако в новой школе Борис Викторович проработал меньше двух месяцев. 27 октября 1937 года он был арестован и отправлен в село Некоуз. Первый допрос Бориса Викторовича состоялся 31 октября 1937 года. На допросе он узнал, что в их школе действовала «шпионско-повстанческая группа», и что в этой группе состоял и он сам. Следующий допрос произошёл 10 ноября. Затем его отправили в Рыбинск и поместили в местную тюрьму.
В Рыбинской тюрьме Борис Викторович просидел пять месяцев. 25 апреля 1938 года его перевели в областной центр, в Ярославль.
В первых числах сентября 1938 года Борису Викторовичу было предъявлено официальное обвинение в членстве в «шпионской повстанческой группе». Вывод был таков: «Прозоровский Борис Викторович подлежит суду Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР, с применением закона от 1-го декабря 1934 года». 12 сентября 1938 года Борис Викторович был приговорён к высшей мере наказания – к расстрелу.
3 октября 1938 года было принято решение о возвращении дела Б.В. Прозоровского на доследование. Однако следствием «не было добыто достаточно данных для привлечения Прозоровского к уголовной ответственности» и было приято решение: «Следственное дело производством прекратить и из-под стражи освободить».
28 ноября Борис Викторович вышел на свободу.
В КАНУН ВОЙНЫ
По-видимому, уже 29 ноября 1938 года Борис Викторович вернулся в Николо-Дор и вскоре вновь стал работать в Щенниковской школе-семилетке. В трёх-четырёх километрах от Николо-Дора находилась Щенниковская школа, стоящая в отдельном лесочке. Вплоть до лета 1941 года Борис Викторович преподавал в Щенниковской школе физику и химию и был завучем (заведующим учебной частью) школы.
ЛЕТО И ОСЕНЬ 1941 ГОДА.
ВО ВЛАДИМИРСКОМ ПЕХОТНОМ УЧИЛИЩЕ
В роковой воскресный день 22 июня 1941 года Борис Викторович, как и все, узнал о начале войны.
Бориса Викторовича призвали в армию 31 июля 1941 года. Провожаемый родными, он от стен закрытого храма в Николо-Доре прибыл в райвоенкомат в с. Ильинское-Хованское, где узнал, что его направляют во Владимирское пехотное училище.
Видимо, 1 августа Борис Викторович с группой таких же, как он, будущих курсантов прибыл во Владимир – бывший губернский город Владимирской губернии, а с 1929 года – районный центр Ивановской области.
Владимирское пехотное училище, где ему предстояло учиться, возникло всего несколько дней назад. 20 июля 1941 года на основании директивы Генерального штаба № 1/524719 Владимирские пехотные курсы усовершенствования начсостава были преобразованы во Владимирское пехотное училище. Училище находилось на восточной окраине Владимира на улице III Интернационала.
Главной задачей училища, начальником которого являлся полковник Иосиф Иустинович Санковский, являлась подготовка командиров стрелковых и пулемётных взводов. Курсанты были сведены в несколько стрелковых и пулемётных батальонов. По окончании курса им присваивалось звание «младший лейтенант».
Один из курсантов, бывший агроном А.Ф. Мишулин, призванный в армию 11 июля 1941 года, вспоминал про свой первый день в училище: «<…> меня зачислили в миномётную роту, выдали шинель до пола, ботинки, длинные обмотки, и началась солдатская жизнь, учёба». Такую же шинель и ботинки с обмотками получил и Борис Викторович.
15 августа 1941 года вместе со всеми курсантами Борис Викторович принял присягу. С этого момента он считался настоящим полноправным военнослужащим.
Как учитель, Борис Викторович, по-видимому, сразу после принятия присяги был назначен командиром отделения из 10 человек и получил звание сержанта.
Из Владимира он написал письмо в Николо-Дор, в котором извещал, где сейчас находится. Получив письмо, его жена Александра Ивановна отправилась пешком во Владимир. Внучка Бориса Викторовича Марина Вадимовна Ахмадщина пишет: «Александра <…> отправилась проститься с мужем. Без устали шла она три дня пешком день и ночь по осенней (вероятно, ещё летней. – Н.З.) разбитой дороге от Николо-Дора до Владимира – а это около 130 километров – плохо одетая и голодная. Когда сил не оставалась – пела. Во Владимире Бог дал свидеться: мужа на час отпустили из казармы. Прощались они навсегда. Борис попросил передать своей матери последнее письмо, в котором просил Надежду Николаевну прощать жену за всё ведомое и неведомое, “потому что она совершила подвиг”». Вновь Александра Ивановна увидела мужа лишь через четыре бесконечно долгих года.
Сводки Совинформбюро, в первый месяц войны сообщавшие главным образом о боях на «направлениях» (Псковском, Новгородском, Смоленском и др.), с августа стали сообщать о сдаче нашими войсками конкретных городов. В первой половине октября бои шли уже на подступах к Москве. 7 октября немцы взяли Вязьму, 14 октября – Калинин (Тверь).
К обороне готовился и Владимир. Курсанты училища ездили на рытьё противотанковых рвов к западу от города. А.Ф. Мишулин вспоминал: «Город Владимир начал готовиться к обороне. С западной стороны стали рыть противотанковые рвы, траншеи. В этих работах участвовали тысячи людей из всех районов области. Работали там как специалисты, так и курсанты училища. В то время вся дорога из Москвы на Владимир и дальше на Горький была забита беженцами. Шли военные, гражданские со скотом».
Первый выпуск училища был намечен на вторую половину декабря 1941 года. Однако Борис Викторович пробыл в училище только два с половиной месяца, и получить положенный младшему лейтенанту один «кубик» (в просторечии – «кубарь») в петлицы ему не было суждено.
В 19-й СТРЕЛКОВОЙ («КУРСАНТСКОЙ») БРИГАДЕ
По-видимому, трагедия советских войск, попавших в начале октября в Вяземский «котёл», решила и судьбу Бориса Викторовича. 14 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял постановление «О формировании 50-ти стрелковых бригад». В тот же день нарком обороны СССР И.В. Сталин на основании данного постановления издал соответствующий приказ. Эти бригады должны были формироваться из курсантов военных училищ и так называемых «политбойцов»*. В состав одной из этих бригад – 19-я стрелковой – включался и батальон курсантов из Владимирского пехотного училища.
* «Политбойцы – коммунисты и комсомольцы, направлявшиеся на фронт в первые месяцы войны по специальной партийной мобилизации в качестве красноармейцев <…> для усиления партийно-политического влияния в частях».
Когда курсантов бросают в бой – это верный показатель катастрофичности положения на фронте. Вспомним героических Подольских курсантов, которыми в начале октября 1941 года заткнули брешь, образовавшуюся тогда в обороне Москвы.
Всё-таки, ещё месяц-другой – и выпускников Владимирского училища послали бы в действующую армию командирами взводов. А так, без двух минут красных командиров (слово «офицер» вернулось в армию вместе с погонами лишь в 1943 году) отправляли на фронт рядовыми красноармейцами.
Получив приказ, в училище спешно сформировали сводный батальон. По-видимому, 15 или 16 октября батальон покинул расположение училища и строем проследовал на железнодорожный вокзал, находящийся у подножия древнего кремлёвского холма. Бойцы погрузились в эшелон, и тот тронулся…
Нельзя не отметить перекличку судеб Бориса Викторовича и его отца Виктора Васильевича. Тот в 1914 году убывал с этого же Владимирского вокзала на войну с немцами, и вот уже в 1941 году его взрослый сын ехал воевать всё с теми же немцами.
По железной дороге батальон владимирских курсантов перевезли из Владимира в Тамбовскую область – на железнодорожную станцию Рада (в десятке километров к западу от Тамбова). Вскоре сюда прибыл батальон курсантов из Саратовского пехотного училища и группы ополченцев из Тамбовской области (которые и являлись упоминавшимися выше т.н. политбойцами).
Так в Раде из владимирско-саратовских курсантов и тамбовских ополченцев началось формирование 19-й отдельной стрелковой бригады («курсантской»).
Командиром бригады с 10 октября состоял полковник Георгий Петрович Исаков (1896–1961 гг.) – будущий генерал-майор и Герой Советского Союза. Г.П. Исаков являлся одним из немногих командиров формирующейся бригады, имевших большой боевой опыт: участник I Мировой и Гражданской войн, он летом 1941 года командовал 811-м стрелковым полком 229-й стрелковой дивизии, участвовавшей в Смоленском сражении. 23 августа Г.П. Исаков был ранен и после выздоровления получил назначение командиром бригады.
В 19-й бригаде Борис Викторович попал в Отдельный батальон связи (ОБСВ). Сперва его назначили электриком зарядной базы, а затем направили на курсы санинструкторов, после окончания которых он был переведён в телефонно-кабельную роту на должность санинструктора.
Все бойцы бригады жили в землянках (неизвестно: они их вырыли или унаследовали от каких-либо своих предшественников).
Уже в Раде Борис Викторович, как и все, узнал о состоявшемся 7 ноября в Москве на Красной площади традиционном параде в честь 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Наверняка, на политзанятиях им зачитывали речь Сталина, с которой вождь в тот день обратился с трибуны мавзолея к армии и народу.
Курсантская бригада пробыла под Тамбовом почти полтора месяца. В это время немецкие войска всё более и более окружали Москву с севера и юга. Казалось, ещё одно усилие – и противник захватит нашу столицу в кольцо. Бригада находилась в резерве, в составе тех войск, которые советское командование накапливало для решающего удара по врагу.
И вот поступил приказ об отправлении на Западный фронт, под Москву. 30 ноября части бригады на станции Рада* погрузились в эшелоны и тронулись в сторону Москвы.
* Ровно через год, в декабре 1942 года, в землянках у станции Рада, где жили бойцы 19-й стрелковой бригады, был размещён крупнейший лагерь № 188 для военнопленных немцев и их союзников. По приблизительным оценкам историков, в этом лагере главным образом от тифа и дизентерии умерло около 60 тысяч человек.
НА ФРОНТЕ: В БОЯХ ПОД МОСКВОЙ
Через два дня бригада прибыла под Москву. А.Ф. Мишулин вспоминал: «По дороге эшелон несколько раз бомбили. Разгружались на станции Химки. Мороз был сильный, нос и уши щипал, да и снегу было по колено. Сапоги заменили на валенки».
Так 2 декабря 1941 года Борис Викторович оказался на фронте. В течение нескольких дней бригада перебрасывалась на различные участки: из Химок в Голицыно, а оттуда – в Кубинку и на Можайское шоссе. Борис Викторович о первых днях на Западном фронте пишет очень кратко: «<…> принимал участие в обороне г. Москвы, сначала на Можайском, потом на Волоколамском направлении».
Наконец 19-ю бригаду придали 49-й армии, сосредоточенной на Серпуховском направлении.
49-я армия, сформированная в августе 1941 года, с 13 октября входила в состав Западного фронта. В течение ноября она противостояла 13-му немецкому пехотному корпусу и к началу декабря в тяжёлых боях остановила противника западнее Серпухова. Командовал армией генерал-лейтенант Иван Григорьевич Захаркин (1889–1944 гг.).
Вскоре Борису Викторовичу было суждено стать участником великого события – контрнаступления Красной армии под Москвой. 5 декабря 1941 года в наступление перешли войска Калининского фронта, 6 декабря – Западного фронта. Наше наступление стало полной неожиданностью для немцев, уже готовившихся к параду в Москве на Красной площади.
Армии левого крыла Западного фронта переходили в наступление поэтапно. 8 декабря в наступление перешла 50-я армия, 16 декабря – 49-я армия.
По-видимому, в начале 10-х чисел декабря по железной дороге в ночное время 19-я бригада была переброшена в Серпухов. Отсюда батальоны совершили длительный пеший марш к югу – через Оку – и расположились в деревнях Паршино и Карпищево.
К исходу дня 15 декабря части бригады сосредоточились в деревнях Екатериновка (тут расположился штаб бригады), Разаново и Мышенки.
Бои, в которых довелось участвовать Б.В. Прозоровскому, вошли в историю контрнаступления Красной армии под Москвой как Тульская наступательная операция.
До конца 20-х годов XX века места, куда перебросили 19-ю бригаду, входили в состав Калужской губернии. В декабре 1941 года эта территория являлась частью Тульской области. Когда 5 июля 1944 года была образована Калужская область (чем фактически возрождалась прежняя Калужская губерния), все эти места вошли в её состав.
Курсантской бригаде противостояли подразделения противника, личный состав которых имел большой боевой опыт. Бойцы же 19-й бригады являлись необстрелянной молодёжью, никогда не бывавшей в бою. К тому же, по-видимому, почти сразу после прибытия на фронт командир 19-й бригады полковник Г.П. Исаков был ранен и временно выбыл из строя. Новым комбригом стал начальник штаба бригады майор Гринь.
В предстоящем наступлении бригаде была поставлена задача прорваться через Оку и овладеть плацдармом на западном (правом) берегу реки, а затем взять город Тарусу.
С рассветом 16 декабря части бригады совершили марш на исходный рубеж. В отчёте штаба 49-й армии говорилось: «Части совершили марш 5–8 км по бездорожью в условиях глубоких снежных заносов, что не позволило ударной группировке своевременно занять исходное положение и начать наступление в 7.00 16.12.41 г. Командарм начало наступления перенёс на 12.00 16.12.41 г. с тем, чтобы обеспечить одновременность наступления всех соединений ударной группировки» .
Приказ командования Западного фронта предписывал начать наступление в 7 часов утра, но генерал-лейтенант И.Г. Захаркин, чтобы дать возможность всем частям успеть подтянуться к намеченному рубежу, перенёс его на 12 часов, чем в случае неудачи наступления очень сильно рисковал.
При форсировании Оки нельзя было использовать танки; в отчёте штаба 49-й армии сказано: «Толщина льда к моменту начала армейской наступательной операции не допускала переправу через неё средних и тяжёлых танков». Поэтому пехоте предстояло идти в атаку одной без поддержки танков.
Наступление началось 16 декабря в 12 часов дня. Соседи 19-й бригады справа – части 133-й стрелковой дивизии – под огнём противника сумели прорваться через Оку на западный берег и продолжали наступление. Однако 19-я стрелковая бригада из-за сильного огня противника преодолеть Оку не смогла.
133-я стрелковая дивизия находилась на фронте с лета, в августе и сентябре воевала под Ельней, а затем – на Калининском фронте, откуда её и перебросили к югу от Москвы. Основная часть её личного состава была давно обстреляна и имела большой боевой опыт. 19-я же бригада находилась на передовой всего несколько дней, и её бойцы, сразу пошедшие в наступление, ещё только учились воевать.
В конце концов, бригада прорвалась через замерзшую Оку и вышла на западный берег в районе д. Игнатовское и с. Кузьмищево, двумя километрах восточнее Тарусы.
Бывший член Военного Совета 49-й армии А.И. Литвин в своих воспоминаниях так описывает этот эпизод: «<…> началось наступление и на тарусском направлении. Нашим частям предстояло по льду преодолеть Оку. Берег здесь был высокий и сильно укреплённый, местность перед обороняющимися лежала как на ладони и хорошо простреливалась. Атака началась днём после короткой артиллерийской подготовки. Гитлеровцы никак не ожидали от нас такой “дерзости”. Особенно отличилась здесь 19-я курсантская бригада <…>. Сняв с себя верхнюю одежду, курсанты стремительно ринулись вперёд и сумели быстро оказаться в мёртвом, недосягаемом для огня противника пространстве. Они захватили с небольшими потерями высокий, крутой обледеневший берег реки и подняли на него с помощью верёвок миномёты и пулемёты».
Так бойцы 19-й бригады начали бои на захваченном на западном берегу реки плацдарме, который историк 49-й армии С.Е. Михеенков назвал «кровавым плацдармом».
Тарусу – небольшой тихий городок на берегу Оки, бывший уездный город Калужской губернии, а в описываемое время райцентр Тульской области – немцы взяли два месяца назад – 24 октября 1941 года.
В декабре 1941 года красивейшие места, запечатлённые на полотнах художника В.Д. Поленова, чья усадьба находилась здесь же, неподалёку от Тарусы, – к счастью, на правом, не занятом немцами берегу Оки, – стали местами ожесточённых боёв.
17 декабря немцы нанесли из Тарусы сильный контрудар по частям 19-й бригады. В ходе боя были тяжело ранены и выбыли из строя командиры двух батальонов. О том, что произошло дальше, командир бригады майор Гринь в своём донесении сообщал: «В результате потерь командования в двух батальонах и в некоторых ротах управление батальонами на некоторое время было потеряно, и бойцы, не возглавляемые никем, в панике бежали на исходные позиции».
В ходе боёв бригада потеряла 50 человек убитыми и 174 ранеными. Отметим количество раненых – 174 человека. Как видим, работы у Бориса Викторовича и у других санинструкторов бригады, тоже впервые «на практике» применявших полученные в тылу знания, в дни боёв под Тарусой хватало.
«Краткая медицинская энциклопедия» говорит об обязанностях санинструктора: «Санитарный инструктор (санинструктор) – лицо младшего медицинского состава военно-медицинской службы, прошедшее специальную военно-медицинскую подготовку. <…> В военное время санинструктор организует медицинское обеспечение своего подразделения (роты, батареи), используя штатных, приданных или выделенных для этой цели из числа солдат так называемых боевых санитаров. Санинструктор обязан знать боевую задачу своего подразделения, место нахождения батальонного или полкового медпункта <…> санинструктор лично оказывает первую медпомощь. Совместно с санитарами санинструктор должен организовать оказание само- и взаимопомощи, розыск, вынос и вывоз пострадавших с поля боя и принимать меры к их эвакуации. Санинструктор роты (батареи) имеет сумку санитарного инструктора, носилочную лямку, нарукавный знак – красный крест. Санинструктор подчинён командиру, а по специальности – фельдшеру батальона».
Майор Гринь был отстранён от командования 19-й бригадой, а её новым командиром стал полковник Яков Никифорович Вронский. Последний до этого командовал 126-й стрелковой дивизией, действовавшей на Солнечногорском направлении. 13 декабря из-за больших потерь эта дивизия была расформирована, оставшийся личный состав влит в 133-ю стрелковую дивизию 49-й армии, а Я.Н. Вронский назначен командиром 19-й стрелковой бригады.
Под командованием Я.Н. Вронского рано утром 19 декабря 19-я бригада ворвалась в Тарусу и к 12 часам дня полностью очистила её от немцев .
Город над Окой, связанный с именами целого ряда выдающихся деятелей русской культуры, был освобождён. Однако окружить находящуюся в Тарусе немецкую группировку нашим войскам не удалось. С.Е. Михеенков пишет: «В районе Тарусы <…> охват немецкой группировки не получился. Противник, воспользовавшись результатами своего контрудара по 19-й стрелковой бригаде и относительно хорошей дорогой на северо-запад, окружения и последующего уничтожения или пленения избежал». Немцы отступили в село Недельное, находящееся в 40 километрах к западу от Тарусы.
19-я бригада двинулась на запад в сторону Недельного. Незамеченными бойцы подошли к д. Кожухово, остановившись в двух километрах южнее села. Здесь стояло до роты немцев, прикрывавших подступы к Недельному. При поддержке минометчиков лыжный отряд внезапной атакой выбил противника из Кожухова.
Недельное представляло собой большое село, бывший центр Неделинской волости Малоярославского уезда Калужской губернии. Через него проходил старинный, мощённый булыжником тракт (или – Старая Калужская дорога), соединяющий Калугу с Москвой. В Недельном находились отступившие сюда из Тарусы командный пункт 260-й пехотной немецкой дивизии, пункт тылового управления и большое скопление автомашин.
От местных жителей разведчики бригады узнали, что не ожидавшие подхода советских войск немцы в селе готовятся встречать Рождество. На днях к ним прибыли машины с рождественскими подарками.
К вечеру 25 декабря к Кожухову подошли главные силы бригады. В половине 12-го ночи при 30-градусном морозе курсанты пошли в атаку. Немцы, встречавшие Рождество, были застигнуты врасплох и не смогли организовать оборону. Бригада захватила большие трофеи: около 300 грузовиков, 12 танков и 50 орудий и минометов. Было взято в плен около 200 немецких солдат.
Немецкое командование не могло примириться с тем, что столь важная для него транспортная артерия оказалась перерезанной. К тому же, захватив Недельное, наши войска оказались с трёх сторон окружёнными опорными пунктами противника. Днем 26 декабря немецкие танки и автоматчики внезапно ворвались в Недельное. В центре села, у церкви, завязался бой.
Бои за Недельное с переменным успехом продолжались ещё четверо суток, и лишь 30 декабря село на Старой Калужской дороге окончательно было занято нашими частями.
В период активных боёв, особенно наступательных, у их участников есть только три наиболее вероятных варианта судьбы: 1) ранение и госпиталь, 2) гибель (первый вариант солдаты называли «в наркомздрав», второй – «в наркомзем») и 3) плен.
27 декабря 1941 года во время боя под д. Кожухово Борис Викторович был тяжело контужен при взрыве артиллерийского снаряда. Напомним, что контузия (от латинского contusio – ушиб) или иначе «снарядный шок» – это «общее повреждение организма <…> чаще – при действии ударной воздушной волны. Проявляется потерей сознания (вплоть до комы), последующей амнезией, головной болью, головокружениями, нарушениями слуха и речи».
Немцы подобрали Бориса Викторовича и, видимо, отправили его на дивизионный сборный пункт пленных…
Б.В. Прозоровский взят в плен 27 декабря. Считая со 2 декабря, он пробыл на фронте 25 дней. Много это или мало? Во время боевых действий у каждого своя судьба: кого-то убивают в первом же бою, кого-то в последний день войны. Борису Викторовичу выпала судьба пробыть на фронте меньше месяца, попасть в плен и провести в нём три с половиной года.
В 1941 году вермахт взял в плен 3,9 миллионов бойцов и командиров Красной армии. Одним из последних в это непостижимое разумом число попал и Борис Викторович. Правда, в отличие от большинства своих сотоварищей, попавших в плен в 1941 году во время отступления и поражений Красной армии, он оказался в плену, когда наши войска наконец-то перешли в наступление и погнали немцев обратно на запад.
* * *
Первым знаком беды для близких Бориса Викторовича стало возвращение письма, которое Надежда Николаевна написала сыну 25 декабря 1941 года. Перечтём отдельные места этого письма, не дошедшего тогда до адресата:
«Дорогой, родной и любимый наш Боренька, будь здоров! – писала Надежда Николаевна. – Наконец-то можно стало написать тебе письмо – получили твоё письмо с адресом. Правда, и оно шло долго – от 9-го до 24. В этот день Шура (жена Бориса Викторовича. – Н.З.) нам прислала сразу да письма – от тебя и от Мити (Дмитрия, брата Бориса. – Н.З.), а сама она осталась в Щеникове*, так как всех своих сотрудников отпустила на рытье рвов около Гарей**. Рады вашим письмам! У нас пока тоже всё благополучно: живы, здоровы, ребятки растут. Нет, нет да завернёт такая лютая стужа, а мы почти всякое дело обсуждаем применительно к вам: нам-то дома тепло, а вот вам, небось, бывает холодно!
* Несколько лет назад название «Щенниково» было принято писать с одной «н». (Прим. ред.).
** Осенью 1941 года и зимой 1941–1942 гг. силами местного населения и тысяч людей, мобилизованных на трудовой фронт из тогдашних Ярославской и Ивановской областей, в районах, примыкающих к Ростову Великому, было выкопано большое количество противотанковых рвов. Село Гари, упоминаемое Надеждой Николаевной, находится в 15 километрах к северо-востоку от Николо-Дора.
Ты, Борисень, пишешь уж очень коротко, хотя и таким бесконечно рады! Митя прислал более подробное письмо. Находится в км от Горького (Нижнего Новгорода. – Н.З.). Живёт в землянке. Проживём – пишет – месяца два, а там и на фронт. Что-то уж очень скоро! Привыкает к пайку. Ты ведь знаешь, какой у него хороший аппетит! Он ведь из Шуи, после того, как его взяли, – дня на два опять приходил домой – взял твои валяные сапоги с калошами, шапку, бритву, еду и денег 175 рублей. Ну а в письме пишет, что его дочиста обокрали <…>. Возмущаюсь я! <...> Пишу тебе его адрес: Горький – 7, п/я – 79. Литер 41». Письмо завершали слова: «Пишите, хоть, родные, чаще, все легче, когда приходит весточка! Крепко-крепко тебя обнимаем и желаем быть здоровым! Любящая тебя твоя мама и родные».
Однако к тому времени, когда письмо матери пришло на фронт, Борис Викторович уже находился в плену, и письмо вернулось обратно с устрашающей пометкой: «Адресат выбыл».
А вскоре, в первой половине февраля 1942 года, семья Прозоровских в Николо-Доре получила извещение о том, что Борис Викторович пропал без вести. На половинке тетрадного листа в клеточку с синим штампом «НКО СССР. Отдельный батальон связи 19-й отд. стрелковой бригады» с датой 28 января 1942 года под № 9 с писарскими завитушками было написано: «Извещение. Отдельный батальон связи 19-й стрелковой бригады сообщает, что сержант Прозоровский Борис Викторович при обороне села Кожухова Детчинского района Тульской области в батальон не вернулся. Считаем 27.12.41 г. пропавшим без вести. Нач. штаба ОБС (подпись неразборчива)».
После «похоронки» это было самое страшное почтовое извещение того времени. Отличие состояло в том, что семья (жена, дети), получившие «похоронку», пользовались, хотя бы и минимальными льготами. Семья же, получившая извещение о пропаже без вести, не имела никаких льгот. Но дело не в этом. Семья пропавшего без вести автоматически попадала в разряд родственников возможного изменника. Ведь каждый пропавший без вести, как полагали власти, мог перейти на сторону врага.
О том, что произошло с Борисом Викторовичем после 27 декабря 1941 года, его близкие узнали только почти через четыре томительных и бесконечно долгих года.
В ЛАГЕРНОМ АДУ.
КРУГ ПЕРВЫЙ: КОНЦЛАГЕРЬ В РОСЛАВЛЕ
Плен – суровое испытание в жизни любого человека. Только что ты, хотя и подвергался постоянной опасности, но находился среди своих, среди товарищей. И вдруг – всё резко меняется, и тебя окружают враги, и некоторые твои товарищи уже и не свои, и не товарищи.
Захваченный в немецкий плен красноармеец сначала направлялся в дивизионный сборный пункт, затем – в корпусной, затем – в армейский. Из армейского сборного пункта пленный направлялся в пересыльный лагерь (дулаг).
Вряд ли все эти перемещения пленных в конце декабря 1941 года производились на автомашинах. Скорее всего, колонна военнопленных, в которой находился Борис Викторович, под конвоем передвигалась по зимним дорогам пешим порядком. Для только что перенёсшего тяжёлую контузию Бориса Викторовича это стало первым тяжелым испытанием.
Примерно в середине января 1942 года Б.В. Прозоровский оказался в немецком концлагере для военнопленных № 130 в г. Рославле Смоленской области, от которого по прямой до с. Недельного было около 900 километров.
Несколькими месяцами раньше в этот же лагерь попал раненный в ногу политработник Сергей Александрович Голубков (в лагере он, естественно, скрывал, что является политработником, т.к. последние подлежали немедленному расстрелу). В 1958 году в Смоленске была опубликована его книга «В фашистском концлагере. Воспоминания бывшего военнопленного»; второе издание книги вышло в Смоленске в 1963 году*.
* Примечательно, что после 1963 года, с окончанием хрущёвской «оттепели», книга С.А. Голубкова, на которую сейчас постоянно ссылаются все историки, касающиеся темы плена и обращения гитлеровцев с нашими военнопленными, ни разу больше не издавалась. Связано это, видимо, с тем, что тема «советские люди в немецком плену» хотя и не являлась уже, как при Сталине, чуть ли не запретной, но всё-таки не входила в число тех тем, на которых надо было воспитывать советских людей.
В нашем рассказе о Рославльском концлагере мы в основном будем опираться на воспоминания С.А. Голубкова.
История Рославльского лагеря к моменту прибытия в него Бориса Викторовича была такова. Немцы заняли Рославль – древний город Смоленщины (исторический Ростиславль) – 3 августа 1941 года. Видимо, уже в первой декаде августа на западной окраине города возник лагерь для советских военнопленных.
По-немецки лагерь в Рославле именовался Durchgangslager (пересыльный лагерь), сокращённо – Dulag. А так как он носил номер № 130, то его полное название было «Dulag-130».
Ядро лагеря составили несколько зданий находившейся в Рославле до войны школы младших командиров пограничных войск.
«До войны, – пишет С.А. Голубков, – здесь располагалась школа для младших командиров пограничных войск Наркомата внутренних дел. Для школы было построено два больших двухэтажных здания из серого кирпича. Рядом была оборудована кухня, тоже из такого серого кирпича. Вокруг кирпичных зданий стояли деревянные постройки, где находились различные склады: вещевые, продовольственные и даже оружейные. Несколько складских зданий сделаны тоже из серого кирпича. Два сарая были особенно велики, примерно по 35 метров длиной и шириной до 25 метров.
Всю территорию бывшей школы, вместе с постройками, немцы и отвели под концентрационный лагерь для военнопленных. Кроме того, сюда же они включили и несколько жилых домов, расположенных около шоссе на окраине города. В домах этих, вероятно, раньше жили семьи командно-начальствующего состава школы, и они имели как бы общее архитектурное оформление со школой. Территория лагеря довольно большая, что-то около 800–900 метров в длину и 600–700 в ширину».
Непосредственно рядом с лагерем находилось большое Вознесенское кладбище с Вознесенской церковью, воздвигнутой в начале XIX века. Церковь была закрыта совсем незадолго до начала войны – 14 мая 1941 года. С 1 сентября 1941 года храм вновь стал действовать, в нём приступил к службе семидесятисемилетний протоиерей Всеволод Михайлович Корицкий (1864–1954 гг.). С Вознесенским кладбищем лагерь был связан всю свою историю – на нём производились массовые расстрелы узников и хоронили умерших. За почти два года существования лагеря здесь завершили свой земной путь многие тысячи заключенных дулага-130. Официально считается, что на кладбище похоронено 130 тысяч лагерных узников.
На начальном этапе истории лагеря им ведал вермахт: «<…> лагерем ведали фронтовые части, а им было не до управления. Согнав в одно место большое количество пленных, фронтовые части держали собранных как скот, не любопытствуя, что и как происходит там, внутри самого лагеря».
Однако вскоре в лагере начался настоящий порядок. «Фронтовая часть, организовавшая лагерь, передала его «СД»*. Едва ли не первое, что сделали новые хозяева лагеря, – это выделили политработников и евреев. Всех их отправили на Вознесенское кладбище и там расстреляли».
* СД – немецкая служба безопасности. (Прим. ред.)
«Что-что, а концлагери фашисты строили крепко, надёжно, с большим искусством. Сразу чувствовалась их опытность в этом деле. Весь лагерь обнесён большой изгородью из колючей проволоки, высота которой доходила до трёх метров. Проволока переплеталась так часто, что пролезть через неё было нельзя. Колючей проволоки для концлагерей немцы не жалели. Через три метра от первой проволочной изгороди шла вторая такая же изгородь. А расстояние между ними переплеталось тоже проволокой в виде паутинки. Если бы даже кто, вздумав бежать, и преодолел бы первый ряд изгороди (что исключалось вообще), уж “паутинку” и второй ряд изгороди преодолеть совсем не представлялось возможным».
Лагерь хорошо охранялся: «Кругом лагеря, с наружной стороны, ходили парные часовые. Участок их наблюдения не превышал 50–60 метров. Через каждые 200–250 метров кругом стояли особые вышки. Там дежурили часовые с пулемётами и с прожекторами. А в поле, около лагеря, со всех сторон оборудованы были специальные блиндажи с дотами и дзотами. <…> Около центральных ворот, в особом доме, который отделялся от лагеря и от города тоже проволокой, дежурил специально подобранный отряд немцев».
Внутренней жизнью в лагере заправляли не немцы, а наши же соотечественники. «Во главе лагеря стоял фашистский офицер. Отдельные службы тоже управлялись офицерами из фашистов, но внутреннее управление передавалось лагерной полиции. Через полицию немцы и осуществляли полное руководство лагерной жизнью. В полицию фашисты подбирали, главным образом, людей, зарекомендовавших себя чем-либо в борьбе против Советской власти. Сюда шёл большей частью деклассированный элемент».
В предвоенные годы советских людей, и в первую очередь молодёжь, готовили к войне, но готовили односторонне. Психологически советские люди были готовы к террору, зверствам оккупантов и т.д. К чему их почти не готовили – это к тому, что врагам будут помогать многие наши соотечественники. Несмотря на все предвоенные поиски предателей, шпионов и врагов народа, то, что вчерашние сотоварищи и сослуживцы станут в лагерях для военнопленных пособниками чуть ли не более жестокими, чем сами немцы, для большинства пленных являлось весьма неприятным сюрпризом.
«Лагерная полиция, – продолжает С.А. Голубков, – была многочисленной, и в ней состояло иногда от 150 до 250 человек. От лагерной полиции выделялась кухонная полиция человек 20–30 и лазаретная – человек 15–20. На вооружении полицейские имели пистолеты, специальные плётки или особые дубинки. Правда, огнестрельное оружие фашисты доверяли не всем полицейским, но и дубинка в руках изуверствующего выродка являлась тяжёлым и грозным оружием».
Полицейские составляли элиту среди пленных: «На левых рукавах они носили красные повязки, где белыми буквами было вышито: “полицай”. <…> Жили полицейские отдельно от пленных, рядом с лагерной охраной; но и в город их не всех и не всегда пускали»295. Во главе лагерной полиции стоял Пётр Петрович Макаров – человек необычайной жестокости, ходивший в форме командира Красной армии.
Лагерь в Рославле представлял собой своеобразную летопись войны 1941–1943 годов. Подобно тому, как в глубинах земной коры один геологический пласт ложится на предыдущий, так и здесь каждая военная операция прибавляла новый «пласт» советских пленных. По-видимому, основу лагеря составили пленные, взятые в боях под Ельней. Потом пошёл поток пленённых в Вяземском «котле», а в ноябре-декабре – те, кто попали в плен в боях на подступах к Москве.
Б.В. Прозоровский ещё учился во Владимирском пехотном училище, а лагерь на окраине Рославля рос и обустраивался, ожидая к себе новых и новых узников…
В воспоминаниях С.А. Голубкова дана целая галерея образов лагерных начальников. В сентябре 1941 года комендантом лагеря был назначен офицер доктор юридических наук Кунц. «Это был человек среднего роста, суховатый, лет 35, с землянистым цветом лица, в пенсне, невзрачный и, как мы убедились очень скоро, злой. На пленных новый комендант не смотрел. В лагере его почти никогда не видели, а если он иногда и показывался среди пленных, то всегда с многочисленной охраной. Всех, кто чуть-чуть нарушал режим лагеря, “учёный” комендант отправлял незамедлительно на кладбище, не вдаваясь в подробности».
При комендатуре лагеря было создано «отделение гестапо, целью которого являлось выявление среди пленных политработников и евреев. Начальником гестапо назначили капитана Дидмана. Видной фигурой в комендатуре стал немецкий фельдфебель Курт Миллер, фашист, хорошо владевший русским языком. Курт Миллер официально являлся помощником начальника гестапо, а по существу безраздельным хозяином всего лагеря. Это был настоящий зверь. Он сам расстреливал пленных, не докладывая Дидману, который редко появлялся в лагере. Если же и появлялся, то в пьяном виде, а в этом виде он был ещё страшнее».
К концу сентября численность заключенных в лагере составляла около 15 тысяч человек, к концу 1941 года – более 80 тысяч.
Такова была краткая предыстория лагеря, куда прибыл Б.В. Прозоровский.
Он переступил за его колючую проволоку в середине января 1942 года. Здесь ему предстояло пробыть более полутора лет – вплоть до сентября 1943 года.
О физическом состоянии Бориса Викторовича вскоре после прибытия в лагерь говорит справка, выданная ему 21 января 1942 года доктором Виталием Григорьевичем Поповым и которая каким-то чудом сохранилась у Бориса Викторовича. В ней написано: «Справка. Проведённым 21.01.42 г. медицинским осмотром установлено, что больной Прозоровский Б.В., родившийся 17/IX-1913 г. имеет значительное понижение слуха; затруднение и задержку речи; расстройство двигательных функций и, кроме того, жалобы на сильные головные боли. Всё это может являться следствием контузии от разрыва артиллерийского снаряда, перенесённого по словам больного, 27.XII-41 года. Врач В. Попов». Самое поразительное, что на справке стоит личный штамп: «Врач Виталий Григорьевич Попов».
Как видим, спустя почти месяц после контузии её последствия оставались для Бориса Викторовича ещё весьма тяжёлыми.
Он прибыл в дулаг-130 в один из самых ужасных периодов его существования. На рубеже 1941 и 1942 гг. к главным врагам заключённых – голоду и холоду, добавился третий – сыпной тиф.
С.А. Голубков пишет про это время: «В лагере начался сыпной тиф. Бороться с ним в лагерных условиях вообще не представлялось возможным. Врачей и фельдшеров много, а вести борьбу они не могли. Если раны ещё кое-как и можно лечить, хотя и простой водой, то уж лечение тифа требовало и питания, и лекарств. А в лагерных условиях не было как раз ни продовольствия, ни медикаментов. Лечение проходило, по меткому выражению врача Виталия Григорьевича Попова, “психотерапией”, то есть одним только внушением. “Психотерапия” помогала немногим. Вошь в лагере считалась почти нормальным явлением. Просто снимали бельё и держали его над жаркими углями. Такой способ, конечно, много дать не мог. <…> Трудно было раздобыть дров для того, чтобы развести костёр. Бань в лагере вообще не было. Люди совсем не мылись».
«Люди быстро заболевали, – продолжает С.А. Голубков, – и так же быстро умирали. Вначале для сыпнотифозных отвели одну палату, потом – целый корпус, в конце концов, перестали разбирать, где раненые, а где больные тифом. Во всём лагере, везде лежали сыпнотифозные. Люди в бреду, в беспамятстве поднимались и часто слепо шли к изгороди, где под выстрелами немецкой охраны успокаивались навсегда».
Мороз же в конце декабря и январе доходил до 40 градусов ниже нуля. По воспоминаниям С.А. Голубкова, утром 28 декабря 1941 года температура была 43 градуса мороза.
За время с 26 декабря 1941 года по 2 января 1942 года из лагеря на Вознесенское кладбище вывезли 16564 трупа. Причиной смерти большинства узников являлся тиф.
Обязанность хоронить умерших была возложена на бригаду могильщиков (в просторечии – «капут-бригада»), численность которой доходила до 330–350 человек. В эту бригаду немцы отбирали преимущественно уроженцев Средней Азии.
«На “капутчиках”, – пишет С.А. Голубков, – лежала обязанность ежедневно вывозить мертвецов на Вознесенское кладбище, расположенное тут же, рядом с лагерем. Они же должны были рыть могилы. <…> Конечно, рыть такую землю слабым людям трудно. Иногда немцы помогали им, взрывая землю аммоналом, а потом заставляли “капутчиков” образовавшуюся яму углублять, вернее, расчищать. Могилу делали общую, на пять-шесть тысяч трупов. В длину могила иногда достигала 80–100 метров. Трупы укладывали в вырытую яму ровными рядами и засыпали землёй. На месте таких могил впоследствии возвышались большие холмы».
Голод же был такой, что в лагере началось людоедство. Одного из тех, у кого нашли человеческое мясо, немцы публично повесили, согнав на казнь всё население лагеря. В течение десяти дней труп висел у всех на виду с табличкой на груди «Повешен за людоедство».
У Бориса Викторовича, ещё не оправившегося после контузии, практически не было шансов выжить в эту его первую лагерную зиму, однако его спасли врачи находящегося в лагере госпиталя.
Одним из основателей госпиталя являлся упоминавшийся выше врач Виталий Григорьевич Попов (1904–1994 гг.) будущий знаменитый профессор-терапевт, лауреат Государственной премии СССР и Герой Социалистического Труда.
В июле 1941 года В.Г. Попов вступил добровольцем в 5-ю Фрунзенскую дивизию народного ополчения Москвы. Вначале он работал в госпитальном взводе медсанбата, а затем в военном госпитале. Со своим госпиталем вместе с медработниками и ранеными он попал в окружение, был взят в плен и вскоре оказался в Рославльском лагере.
В тот период, когда лагерь охранял вермахт, и немцам было всё равно, что делают пленные, В.Г. Попов вместе с другими медиками организовал в лагере госпиталь для раненых и больных.
Борис Викторович хорошо знал доктора. В его послевоенном архиве сохранилось несколько газетных вырезок о В.Г. Попове, следовательно, он следил за судьбой своего спасителя и старшего товарища.
С.А. Голубков свидетельствует: «<…> в концлагере пленные русские врачи организовали госпиталь для раненых и больных. Они пришли на помощь своим товарищам, находящимся в ещё худшем состоянии. Госпиталь, или лазарет, как его часто называли, размещался в обоих двухэтажных зданиях или корпусах, где раньше жили курсанты пограншколы. Никто из немцев, как я узнал впоследствии, не собирался организовывать госпиталь для пленных. Это сами пленные врачи проявили свою инициативу».
«Устроен был госпиталь, – продолжает С.А. Голубков, – самым примитивным образом. В каждом здании, или, как мы тогда говорили, корпусе, четыре палаты, две в нижнем этаже, две в верхнем. В палатах стояли сколоченные на скорую руку из неотесанных, к тому же плохо пригнанных друг к другу досок нары в два этажа. Доски были взяты из разобранных тут же в лагере сараев. И делалось всё это самими же пленными».
«В такой палате можно разместить 160, от силы 180 человек. А всего в здании могли поместиться человек 640–720. Я говорю про нормальные условия. В действительности же <…> в зимнее время в одно здание вмещалось по 1800–2000 человек. Люди лежали на полу, в проходе, в коридорах и даже на чердаках под железной крышей (зимой-то!). И всё же на чердаке было лучше, чем лежать во дворе на земле в сорокаградусный мороз. Конечно, в госпитале никаких матрацев, одеял, подушек или чего-либо подобного и в помине не было. Не было даже простой соломы и негде было её достать, так как из лагеря никого не выпускали. Раненый лежал на своей шинели, если только она у него имелась. А нет, то просто так, на голых досках или на голом полу».
«Кроме восьми палат, в двух зданиях-корпусах находилось несколько служебных комнат. Оба здания-корпуса однотипные, в них одинаковые и условия, одинаково они и использовались. По одной маленькой комнате в каждом здании отводилось для аптек. Впрочем, лекарств в них никогда не было. Обычно в аптеку все, кто имел, отдавали бинты, а потом здесь же стирали использованные и опять пускали их в употребление. По одной комнате занимали врачи, фельдшера, а впоследствии лучшие комнаты заняла лазаретная полиция <…>. Кроме того, на каждый этаж полагались санитары, рабочие. Подбирали такой персонал пленные врачи по своему усмотрению, и жили санитары и рабочие где придётся, часто даже в палате вместе с ранеными».
При госпитале существовал и так называемый третий корпус. «Третий корпус, – пишет С.А. Голубков, – это деревянный сарай, где раньше был вещевой склад. Доски здесь неплотно прилегали друг к другу. Большие полки, на которых раньше размещались различные вещи, сохранились, их не убирали, и теперь они назывались нарами. Раненые и пленные лежали в три яруса под самую крышу.
В неотапливаемом сарае ветер гулял свободно, а если на дворе мороз доходил до 41–42 градусов, то и в помещении была такая же температура. Всего здесь лежало около 1800 человек больных и раненых.
Кто раз побывал в третьем корпусе, тот не забудет его никогда, он запомнит его на всю жизнь. Говорят, есть ад, где черти поджаривают людей за земные грехи. Этим адом церковь пугает людей как чем-то страшным, невероятным. <…> Я не был в аду. Но я был в третьем корпусе. Мне казалось, что если бы я из третьего корпуса попал сразу в ад, то ад показался бы мне раем. Говорят, в аду люди мучаются за свои земные грехи. А вот в третьем корпусе советские люди мучились, потому что были русские, а русских немецкие фашисты стремились истребить и, не решаясь это сделать открыто, делали замаскировано, скрытно, медленно, но верно».
Вот как происходила в третьем корпусе раздача пищи: «В госпитале хлеб выдавался отдельно от баланды и один раз в день. Все были в это время возбуждены. Несколько десятков полицейских, тепло одетых, в рукавицах, с плётками и дубинками в руках, охраняют корзины с хлебом и беспощадно раздают удары плётками налево и направо, отгоняя “ходячих” больных, стремящихся приблизиться к корзинам. Санитары и кухонные рабочие под охраной полицейских разносят хлеб и раздают его больным и раненым.
На всех нарах, даже и под нарами, лежали люди. Страшно холодно. На многих надето по несколько рваных, грязных шинелей. Такими же грязными шинелями укутывали они себе голову, ноги. У некоторых головы повязаны грязными полотенцами, тряпками или рваными женскими платками.
Нары широкие, на них лежало по нескольку человек. Рядом на кирпичах стоят немецкие каски, а в них тлеют угли или горят маленькие деревянные чурки.
Небритый, грязный, закутанный больной, в сизом дыме, на большом морозе представлял жуткую картину. При движении на нём начинало громыхать всё его имущество: на поясе привязана тряпочкой консервная банка, через плечо – противогазная сумка, набитая грязным тряпьём. Ничего снять с себя было нельзя, иначе можно лишиться своего “богатства”. Ведь в такой тесноте и непрерывном движении за людьми не уследишь.
Трупы умерших или замёрзших лежали тут же, их убирали только раз в день. <…>
Вот принесли горячую баланду. Всем хочется горячего. А баланда тем и хороша, что горяча. Начинается война за баланду. “Ходячие” устремляются к котлу. Никакой очереди установить не удаётся. Снова усиленно работают полицейские дубинки, плётки, но и они мало помогают. <…> Получив свою долю, все с жадностью тут же уничтожают её, не вставая с пола или нар, не смущаясь соседства с мертвецом.
Съев свою порцию, пленный голодными глазами следит за раздачей: не будет ли добавки.
Так же происходит раздача пищи и в других зданиях госпиталя. Разница только в том, что там не гулял мороз открыто. Окна в большинстве своём забиты фанерой, в палате темно, больных и раненых набито до отказа. Здесь все тоже держат своё имущество на себе. В палате не так холодно, но зато воздух всегда удушливый, спёртый. При раздаче пищи такие же споры за порции умерших, борьба за добавку. Всё происходило так же, как и в третьем бараке, и всё это вело к истреблению десятков тысяч несчастных пленных людей».
В этот госпиталь и попал Борис Викторович в качестве больного. Здесь же он заболел вначале сыпным тифом, потом – дизентерией. Узнав о том, что он по военной специальности санинструктор, его взяли в госпиталь санитаром. Позднее Борис Викторович вспоминал: «Весь 1942 год я провёл в лагере военнопленных в г. Рославле, валялся в “лазарете” и перенёс сыпной тиф, потом дизентерию и другие болезни, а, оправившись, работал в лагерной амбулатории санитаром».
В конце 1941 года начальником госпиталя для военнопленных был назначен врач-нацист Франц Лейпельт. «Это был высокий, – пишет о нём С.А. Голубков, – сухой старик на длинных ногах с большим животом, вечно слезящимися глазами и мокрым носом. На первый взгляд он казался безразличным к своим обязанностям и к судьбе советских раненых и больных. Но это только на первый взгляд. На самом деле этот старик был заинтересован в том, чтобы истребить как можно больше советских людей. И этому делу он служил хорошо. Ведь если и была большая смертность среди раненых, больных пленных, если и отсутствовали медикаменты, то заслуга здесь перед фашистами, в первую очередь, Лейпельта. Он ежедневно посещал госпиталь. В сопровождении переводчика Вильгельма Теодоровича Бифеля – немца с Поволжья – и двух немецких санитаров, Лейпельт медленным, старческим шагом проходил по палатам корпусов, выслушивал доклады и просьбы русских врачей, неизменно повторял – “гут”, “гут” и так же медленно уходил обратно, предоставляя времени делать своё страшное дело.
Горе постигало русского врача, осмелившегося пожаловаться на отсутствие медикаментов, на плохое питание в лагере, такого врача немедленно убирали из госпиталя и из лагеря вообще. Бесследно исчезали из лагеря и те военнопленные, которые решались открыто высказать своё недовольство лагерными порядками. Таких людей оккупанты считали коммунистами. А коммунистам из лагеря была только одна дорога – на Вознесенское кладбище».
Результатом страшной зимы 1941–1942 гг. стала гибель подавляющего большинства узников: «К весне 1942 года в лагере оставалось не более десяти тысяч человек (из 80 тысяч, имевшихся осенью 1941 года)».
С конца 1941 года каждому пленному в лагере был установлен такой рацион: 200 граммов хлеба и два раза жидкой похлебки (баланды) по 750 граммов. Основным компонентом и хлеба и баланды являлась костная мука.
«Костную муку, – пишет С.А. Голубков, – немцы выделывали где-то у себя, в Германии, и, как видно, предназначалась она для кур, чтобы они лучше неслись.
Мука привозилась в больших бумажных мешках по 15–20 килограммов каждый. Цветом и видом своим она напоминала цемент. На мешках нарисован был большой красный петух с приподнятой головой, стоящий на одной ноге <…>. Пленные называли эту муку “петушком”.
Может, для кур-то она в какой-то мере и была полезна, но человеку примесь костной муки наносила непоправимый вред. При помощи костной муки пленные обрекались на мучительную, верную смерть. А такое положение вело к осуществлению мечты Гитлера, то есть к уничтожению нескольких десятков миллионов славянского населения – лишнего, по его утверждению. И гитлеровской цели уничтожения пленных как нельзя лучше отвечала костная мука.
В муку, из которой пекли хлеб или варили баланду, сначала добавляли 10 процентов костной муки, потом – 30 и, наконец, стали добавлять 50 процентов.
Баланду приготовляли по такому способу: кипятилась вода, отдельно замешивалось тесто (из костной муки. – Н.З.). Потом в крутой кипяток добавляли тесто; чтобы этому тесту не завариться, воду непрерывно размешивали большими деревянными лопатами. В конце концов получалась жидкость, напоминающая клейстер. Иногда вместо муки в баланду засыпали шелуху от гречневой крупы, а потом полностью перешли на “петушка”.
Баланда с примесью “петушка” отличалась едким привкусом, хотя в хлебе этот привкус не сразу можно было ощутить.
Костная мука, через хлеб или баланду введённая в организм человека, в желудке не переваривалась, поступая в кишки, осаждалась там. В конечном итоге после двух-трёхнедельного употребления “петушка” в кишках у человека образовывался камень, и человек неизбежно погибал, спасти его не представлялось возможным.
Мы старались разъяснить массе пленных и через листовки, и через личное общение: не торопиться с принятием пищи. Надо дать отстояться костной муке и остатки баланды не есть, а выбрасывать. Но наше разъяснение существенного успеха не имело. Голодные люди не хотели, да и не могли ждать. Они съедали всё и без остатка».
В Рославльском лагере, как и везде на оккупированной территории, гитлеровцы, исходя из вечного принципа «разделяй и властвуй», старались расколоть советских людей по национальному признаку. Весной 1942 года лагерь разделили на национальные сектора. «Лагерь разгородили проволокой, изолировав пленных по национальностям. Прежде всего выделили украинцев и поместили их отдельно от русских. Потом стали отделять казанских татар. Для татар тоже отвели специальный барак и никого к ним близко не допускали <…>. Почему-то народы Средней Азии выделялись все вместе под общим названием – мусульмане».
Единственным светлым пятном в мрачной лагерной действительности была деятельность упоминавшегося выше о. Всеволода Корицкого, настоятеля соседствовавшей с лагерем Вознесенской церкви. Из пропагандистских соображений немцы на первом этапе оккупации разрешали русскому духовенству посещать лагеря. Престарелый протоиерей делал всё, что было в его силах, для помощи находящимся за колючей проволокой соотечественникам. Он собирал среди прихожан продукты, которые передавал заключённым, чем спасал от голодной смерти многих. Всякими правдами и неправдами о. Всеволод под своё поручительство способствовал освобождению узников, которых местные жители брали в «примаки». После массовых расстрелов, происходивших буквально в двух шагах от его храма, о. Всеволод молился об убиенных.
В книге С.А. Голубкова о миссии о. Всеволода Корицкого не сказано ни слова. То ли он, как бывший политработник, не захотел сказать что-то хорошее о служителе Церкви. То ли – что более вероятно – текст про настоятеля Вознесенской церкви вырезала цензура: оба издания воспоминаний С.А. Голубкова вышли в разгар так называемых хрущёвских гонений на Церковь, когда в советской печати невозможно было сказать что-то хорошее о священнике, тем более о служившем на оккупированной территории.
В мае 1942 года в лагерь приехало несколько русских офицеров-власовцев из так называемой Русской освободительной армии (РОА), во главе которой немцы символически поставили советского генерала-предателя А.А. Власова. Два офицера посетили и госпиталь, один – в чине подполковника, другой – майор. «Одеты они были в нашу советскую форму с красной окантовкой на брюках и гимнастёрках, но без петлиц. На плечах широкие погоны с двумя просветами. В качестве знаков различия на погонах у подполковника по три прямоугольника, у майора по два. Своих отличительных знаков эти прохвосты ещё не изобрели. Фуражки тоже были наши, советские. Но вместо красной звезды – кокарда, сделанная из белой жести. На руках немецкие перчатки. Оружия не видно, вероятно, немцы ещё не совсем им доверяли. Сопровождал их немецкий офицер в чине старшего лейтенанта, державший себя высокомерно. Подполковник и майор заметно заискивали перед ним, униженно вытягиваясь, если он обращался к ним с вопросом».
«Из общей многочисленной массы пленных нашлось несколько десятков человек, изъявивших желание пойти на службу в их отряды. Таких людей отделили от общей массы. Их поместили в отдельную землянку, одели на них новое обмундирование советского образца, без петлиц. Каждый день, недели три подряд, к ним ходил фашистский фельдфебель и обучал их немецкому строю здесь же, на лужайке перед госпиталем. Кормили их несколько лучше, но все той же баландой <…>».
Через некоторое время лагерь посетил ещё один власовец – полковник Григорьев. «По его просьбе выстроили весь лагерь, как на ежесубботний подсчёт. Построили и обслуживающий персонал госпиталя. Григорьев выступил перед выстроившимися с большой речью. Он начал расхваливать “особый порядок” немцев в Европе, хвалил своего начальника обер-изменника Власова, рассказал его никому ненужную биографию, потом долго говорил о себе. Говорил нудно и много. Утомлённые и истощённые пленные почти не слушали, многие сели здесь же на земле и занялись своим делом. В конце концов Григорьев предложил пленным “подумать о вступлении в армию Власова и завтра сказать своё слово”.
Чтобы хоть как-то завоевать доверие пленных, здесь же, на лужайке, Григорьев предложил организовать выступление лагерной “самодеятельности”. Из полиции принесли несколько балалаек, гармонию, да у пленных нашлось несколько губных гармошек».
Однако к власовцам записались очень немногие. «Тогда Григорьев приступил к насильственному отбору “добровольцев”. Это делалось довольно просто. Пленных выстраивали по баракам, а Григорьев со своей свитой обходил шеренги, выводил оттуда менее истощённых и объявлял, что они “добровольно” зачислены во власовскую армию. Отобранных таким образом “добровольцев” переводили на особый режим под охрану полиции, немного лучше кормили, а потом грузили в вагон и увозили».
И, казалось бы, почему Борису Викторовичу было не примкнуть к власовцам? С его отцом, отсидевшим три с половиной года в Темлаге, с его собственным годом тюрьмы и смертным приговором 1938 года, с его знанием немецкого языка – бывшего сельского учителя приняли бы в РОА с распростёртыми объятиями. Казалось, кому ещё, как не ему, пойти на службу к немцам? И разве не на это, в частности, рассчитывал Гитлер, полагая, что на сторону Германии в начавшейся войне перейдут все, кто пострадал от сталинского режима (а имя им – легион)?
Однако крещённый в церкви, где состоялось отпевание и погребение П.И. Багратиона, сын героя Второй Отечественной войны, Борис Викторович был настоящим патриотом. Он воевал за Родину, а не за политический строй, хотя в то время оба эти понятия и оказались слитыми воедино.
А затем началось тяжёлое время летних успехов 1942 года, когда немецкие войска захватили огромные территории на юге нашей страны и подошли к Волге. Началась Сталинградская эпопея.
В разгар немецкого наступления на фронте, впервые за всё время существования лагеря, на его территории, возле кухни, был установлен громкоговоритель, по которому ежедневно в 7 часов вечера передавались последние известия. «От этих известий, – пишет С.А. Голубков, – руки опускались. Мы старались не ходить к кухне, но голос диктора доносился и до здания госпиталя. Невольно приходилось слушать» 325. Однако постепенно тон сообщений стал меняться, отчего узники понимали, что дела в Сталинграде обстоят для немцев не так хорошо. «Мы понимали, что в Сталинграде решается очень многое и, в частности, решается и наша судьба».
А вскоре все – и узники, и полиция, и немцы – узнали о страшном разгроме армии Паулюса на Волге. Победа Красной армии в Сталинграде окончательно предопределила судьбу войны. Предопределила она и судьбу Рославльского концлагеря и его узников. Последние полгода существования лагеря – это был период его ужасающей агонии.
В апреле 1943 года лагерь разделили колючей проволокой на две части и одну из них освободили от пленных. Вскоре узники узнали, что в освобождённую от них часть лагеря будут заключены перед отправкой на запад мирные жители из партизанских районов Смоленщины.
«Скоро к нам в лагерь, – свидетельствует С.А. Голубков, – потянулись целые обозы женщин, детей и стариков. Трудоспособных мужчин почти не было видно. Они ещё раньше ушли или в леса – в партизанские отряды, или же были отправлены немцами в лагерь, в тюрьмы, а частью расстреляны.
Лагерь гражданских, или пересыльный пункт, организован был большой. <…> Сразу же с утра здесь, под открытым небом, шла проверка и сортировка переселяемых людей. Большая группа немецких офицеров допрашивала и проверяла каждого пересылаемого. <…> Если то или иное семейство не вызвало сомнений, выписывали особое свидетельство, и семью направляли дальше на запад, обычно на поселение в более “надёжный” район.
Но на поселение отправляли только нетрудоспособных. С трудоспособными обычно решали по-другому. Всех работоспособных женщин, начиная с 15–16-летнего возраста, отделяли от семьи и отправляли на станцию, там их грузили в специальный эшелон и отсылали на каторгу в Германию».
Многие из этих людей навсегда остались в Рославльском лагере, точнее, на находящемся рядом с ним Вознесенском кладбище. Пересыльный пункт проработал весь апрель и май и опустел только к июню 1943 года.
Борис Викторович пробыл в Рославльском лагере до самого конца его существования.
В начале июля 1943 года началась битва на Курской дуге. В Рославльский лагерь ещё успели привезти группу наших бойцов, попавших в плен в первые дни германского наступления. С.А. Голубков вспоминал: «И вот… 5 июля началось… Грохот орудийных раскатов донёсся и до нас. Началось знаменитое немецкое наступление на Орловско-Курской дуге. Лагерь заволновался. Уже на второй день некоторые немцы заговорили об успешном продвижении гитлеровских войск. На третий день в госпиталь доставили новых раненых пленных. Привезли немного, всего человек 12. А немецкое радио, захлебываясь, закричало о неминуемом разгроме Советской Армии и обязательном предстоящем взятии Москвы».
Узники впервые увидели пленных с погонами. «О новой форме, о погонах мы в лагере слыхали, но видеть её пришлось первый раз. Слышали мы и о больших изменениях, происходивших в Советской Армии: повышении роли и авторитета командиров и об официальном наименовании командного состава офицерами. Но видеть первого офицера в новой форме, хотя и с полевыми погонами, удалось нам только теперь».
Битва на Курской дуге кончилась для немцев поражением, Красная армия перешла в наступление.
И вот просуществовавшему два года на земле древнерусского Ростиславля дулагу-130 наступил конец. В начале сентября 1943 года началась его эвакуация на запад. Узникам лагеря предстоял пеший переход в несколько сотен километров до самой западной области Белоруссии – Брестской.
«Однажды ночью, – пишет С.А. Голубков, – в первых числах сентября нас всех подняли и приказали построиться. В лагере оставалось не более четырёх – четырёх с половиной тысяч человек. Это из 100 тысяч пленных! Некоторую часть из них немцы силой отправили на запад. Какая-то мизерная группа пленных добровольно пошла в услужение к немцам. Громадное же большинство пленных умерло от голода, холода и различных эпидемий и осталось лежать в длинных и широких пирамидах Вознесенского кладбища. <…>
Стали выводить из лагеря. Выводили медленно и долго. Начался рассвет».
Узников вывели на Варшавское шоссе, и повели на запад. «Охрана колонны оказалась солидной. Человек 350 фашистов-конвойных, из них человек до 200 с автоматами, да около 80 полицейских. Стояли на дороге и два броневика, а вдоль дороги взад и вперёд курсировали мотоциклетчики. Как видно, немцы готовились к долгому, длинному и не совсем безопасному для них пути».
«Этап продолжался дней пятнадцать. Втянувшись, мы проходили иногда по двадцать километров в день. Стало уже привычным, что днёвки и ночёвки проходили на открытых загонах, где находилось невыкопанное картофельное поле».
По дороге С.А. Голубкову удалось бежать и найти в лесу партизан. Из-за счастливого для него побега бывший Рославльский лагерь лишился своего летописца. О дальнейшей судьбе и обстоятельствах пребывания в плену Бориса Викторовича нам известно крайне мало.
Рославль был освобождён 25 сентября 1943 года в ходе Смоленско-Рославльской операции Западного фронта, носившей кодовое название «Суворов». Примечательно, что Рославль освободила 49-я армия, в рядах которой Борис Викторович воевал в декабре 1941 года под Москвой. В тот же день 25 сентября Красная армия освободила от оккупантов и Смоленск.
КОНЦЛАГЕРЯ В БАРАНОВИЧАХ,
ВИЛЬНЮСЕ, СУДЕТАХ И ГЕРМАНИИ
По географии лагерей, в которых находился Борис Викторович, наглядно видно, как немецкая империя смерти, нацистский ГУЛАГ, вместе со всем III Рейхом пятилась на запад: Смоленская область (Рославль), Брестская область (Барановичи), Литва (Вильнюс), Судетская область (Чехословакия), Германия (Мюльберг-на-Эльбе, Шенфельд).
В начале октября 1943 года Борис Викторович с основной частью бывших узников Рославльского лагеря оказался в лагере в Барановичах в Брестской области.
В Брестской области война началась два с лишним года назад. Немцы взяли Барановичи 27 июня 1941 года. В I Мировую войну в Барановичах некоторое время находилась Ставка Верховного Главнокомандующего, которым был тогда великий князь Николай Николаевич. После советско-польской войны 1920 года Барановичи со всей Западной Белоруссией отошли в состав Польши и вновь вошли в состав Советского Союза в сентябре 1939 года.
О пребывании в плену Бориса Викторовича в период с октября 1943 года по апрель 1945 года мы располагаем только крохами информации. Так, мы знаем, что часть этого пути по лагерям вместе с ним прошёл фельдшер Андрей Кузьмич Белобородов. Борис Викторович познакомился с ним и подружился ещё в Рославльском лагере. Вместе они были в Барановичах и в Вильне. Они разлучились неожиданно для себя в июле 1944 года, когда узников лагеря из Литвы отправили на территорию Рейха.
В декабре 1945 года, когда Борис Викторович уже вернулся домой в Николо-Дор, на имя Надежды Николаевны от А.К. Белобородова пришло письмо (адрес матери Белобородову дал Борис Викторович).
Вот текст этого письма:
«Здравствуйте, Н.Н. Прозоровская!
На первый взгляд покажется странным для Вас, что неизвестно откуда и от кого это письмо. Возможно, я Вас и побеспокою им, но Вы извините меня. Я о Вас ничего особенного не знаю, знаю только одно, что Вы являетесь матерью Бориса Викторовича Прозоровского. Мы с ним жили и работали в одном месте неразлучно 12 месяцев. В июле месяце 44 г. мы с ним в пути расстались, это произошло неожиданно для нас, так что даже не простились. Знаю, что у него была жена и ребёнок. Знаю я это всё из разговоров с ним. Но всё дело не в этом.
Мне интересно знать, вернулся ли Борис? А если нет, то где он сейчас? По-моему, вы уже имеете от него кое-какое сообщение. Да! Простите меня за рассеянность. Ведь Вы же меня не знаете, кто я? Белобородов Андрей Кузьмич, фельдшер. Ведь Борис же мой коллега. Я должен знать, где он? Как получите это письмо, прошу Вас ответить.
Мой адрес: Полевая почта 52730, фельдшеру Белобородову А.К.
Ваш ответ для меня будет великая радость! Нас с Борисом постигло одно несчастье. Итак, ещё раз извините меня за беспокойство. До свидания. С приветом к Вам. 21.11.45. Пишите обязательно! А.К. Белобородов».
В Барановичском лагере Борис Викторович находился с октября по декабрь 1943 года. Здесь Борис Викторович работал санитаром в хирургическом отделении лагерного лазарета. Впрочем, что лагерь и здесь не просуществует долго, было ясно и немцам, и их узникам.
В декабре 1943 года весь лагерь перегнали в столицу Литвы Вильну (Вильнюс). В июле 1944 года, когда Красная армия в результате операции «Багратион» освободила практически всю Белоруссию и вступила уже на территорию Литвы, узников переправили на территорию Рейха.
В августе 1944 года Борис Викторович оказался в лагере шталаг* IV-С в Судетской области в г. Быстрица (северо-запад Чехии). Поскольку Судетская область с 1938 года считалась территорией III Рейха, то лагеря здесь обозначались римской цифрой, которая указывала на военный округ, и прописной буквой, соответствовавшей очерёдности его возникновения. Как известно, в 1938 году из-за Судетской области Чехословакии, населённой в основном немцами, произошёл так называемый Мюнхенский сговор, фактически открывший Гитлеру путь к захвату территорий за пределами Германии.
* Шталаг (Stalag, сокращённо от немецкого Stammlager) – основной стационарный лагерь. В отличие от дулагов, которые являлись временными учреждениями, шталаги теоретически создавались чуть ли не на века.
Затем из шталага IV-С Борис Викторович был перемещён в шталаг IV-В близ г. Мюльберга-на Эльбе (современная германская земля Бранденбург, бывшая территория Германской Демократической Республики), где пробыл до октября 1944 года.
Официально лагерь назывался «шталаг IV-B Мюльберг». Он находился на правом берегу Эльбы примерно в 5 километрах от г. Мюльберг и в 30 километрах южнее г. Торгау, где 25 апреля 1945 года произошла историческая встреча советских и американских воинов.
Шталаг IV-В был не чета Рославльскому дулагу. Он возник ещё во время I Мировой войны при кайзере Вильгельме, и тогда в нём содержались русские, французские и британские военнопленные. Затем, по-видимому, лагерь был законсервирован. В 1939 году он принял партии пленных поляков, а с лета 1941 года сюда стали во множестве поступать советские пленные .
Лейтенант Ю.В. Владимиров, оказавшийся в этом лагере в 1942 году, описывает его так: «Вскоре показался в поле лагерь военнопленных <…>. Он был ограждён снаружи со всех сторон двумя рядами колючей проволоки, заканчивавшимися по углам и посредине сторожевыми вышками, на которых сидели с автоматами часовые, и имел множество длинных деревянных бараков, размещённых в отдельных секциях – блоках, также огороженных колючей проволокой, но только в один ряд».
Как и положено, при въезде на территорию «Великой Германии» все вновь прибывшие в шталаг IV-B получили свой номер. П.М. Полян пишет: «При поступлении в лагеря на территории Рейха советских военнопленных обязательно регистрировали, присваивая им текущие номера. Эти номера отныне становились их обиходными именами, не вторыми и не первыми, а единственными, которыми пользовались немцы. Номера, впрочем, были строго индивидуальные, и даже после смерти их обладателя вторичное присвоение его номера кому-то ещё не допускалось».
Номер, который получил Борис Викторович, был «283103» (в его личном архиве сохранилась учетная карточка заключенного зелёного цвета с этим номером).
Через какое-то время из головного лагеря близ Мюльберга Бориса Викторовича отправили в его «филиал» – «рабочую команду» (Arbeitskommando). Позднее он вспоминал: «<…> я был в числе других отвезён в <…> лагерь Шенфельд (рабочая команда), где сначала был на общих работах, а потом санитаром команды». Город Шенфельд, вблизи которого находился данный лагерь, – это территория современной земли Саксонии (территория бывшей Германской Демократической Республики). «Рабочая команда» была приписана в шталагу IV-B и являлась одним из его подразделений.
Известно, что весь последний период существования нацистского Рейха в его лагерях шло массовое уничтожение пленных. К счастью, Борис Викторович уцелел. По-видимому, он и его сотоварищи из рабочей команды до какого-то времени были нужны, а в последний момент уничтожить их просто не успели.
ОСВОБОЖДЕНИЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
Борис Викторович был освобождён из плена 29 апреля 1945 года. В своих воспоминаниях он пишет об этом, как и обычно, очень кратко: «В конце апреля 1945 г. по приходе частей Красной Армии лагерь вырвался из немецкого плена, и я вместе со всеми пленными был направлен в сборно-формировочный пункт г. Заган*, а затем поступил в распоряжение военного коменданта г. Прибус, где проходил госпроверку».
* Город Заган в настоящее время находится в западной части Польши.
К счастью, «госпроверку» Борису Викторовичу удалось пройти успешно. Ведь, как мы знаем, многим нашим военнопленным пройти эту самую проверку не удалось, и они из немецких лагерей прямым путем проследовали уже в родные советские лагеря. Многое зависело от личности следователя, и, вероятно, Борису Викторовичу попался нормальный человек, который не видел заранее в каждом бывшем в плену заведомого предателя и немецкого пособника.
«С 15 мая, – пишет Борис Викторович, – я был зачислен на должность командира отделения комендантского надзора, а с 12 июля 1945 г. приказом военного коменданта направлен в качестве санинструктора в 23-ю Подвижную ремонтную мастерскую, откуда и был демобилизован».
Скорее всего, первое, что сделал Борис Викторович, когда смог, – это послал домой в Николо-Дор весточку о том, что он жив и надеется скоро вернуться. Можно представить, как были рады этой вести и его родители, и жена, и все остальные родные!
В последние дни войны и первые дни мира восточные районы Германии представляли собой поразительное зрелище. Во все стороны двигались массы людей – возвращались домой угнанные на работу в Германию поляки, французы, чехи, югославы, советские люди, проходили войска и техника Красной армии, двигались под конвоем колонны пленных немецких солдат, пробирались на запад группы немецких беженцев. Над дорогами звучали языки всех стран Европы. Незабываемая весна сорок пятого года! И где-то здесь в гуще всего этого находился Борис Викторович, вновь одетый в форму бойца Красной армии.
12 июля 1945 года он был зачислен на должность санинструктора 23-й Подвижной ремонтной мастерской Гвардейских минометных частей 1-го Украинского фронта. В этой части он прослужил до демобилизации. Б.В. Прозоровский был демобилизован 31 октября 1945 год.
С эшелоном демобилизованных воинов он отправился на Родину. Через Германию, Польшу, Белоруссию, Смоленскую и Московскую области эшелон проследовал до Москвы. Поезд шёл с запада на восток через те места, которые возвращающиеся в нём солдаты прошли в предыдущие годы – кто в рядах армии, кто – за колючей проволокой концлагерей.
Из Москвы Борис Викторович с Ярославского вокзала поездом отправился до железнодорожной станции Итларь (она находится на линии Москва – Ярославль, не доезжая Ростова Великого). Из Итлари же около двадцати километров он прошел пешком до Николо-Дора.
Во время войны его семья в тылу, как и все, жила трудно. Александра Ивановна вспоминала: «В военные годы жизнь была тяжёлой. <…> От голода спасало только своё хозяйство – держали коз, разводили пчёл, выращивали овощи». Общие тяготы усугубляло незнание о судьбе Бориса Викторовича, и, наверное, все эти годы его близких поддерживала теплящаяся надежда на то, что он всё-таки жив.
Наконец пришёл великий день 9 мая 1945 года, день Победы, день окончания казавшейся бесконечной войны. Пришло долгожданное известие от Бориса Викторовича из Германии о том, что он жив. Отныне вся жизнь Виктора Васильевича, Надежды Николаевны и Александры Ивановны была подчинена одному: нетерпеливому ожиданию его возвращения.
Борис Викторович вернулся домой в Николо-Дор 8 ноября 1945 года. Шестилетняя дочь Валентина, родившаяся в конце 1939 года, не узнала отца. Александра Ивановна вспоминала о возвращении мужа: «В ноябре, восьмого числа, приехал. Это был выходной день. Все были безмерно рады. А младшая дочь Валя говорит: “Я смотрю, какой-то дядька пришёл”, не сразу и признала отца, ведь четыре года росла без него. Потом дочки получили гостинцы – шоколадки, которых никогда и не видели. Взрослые накрыли стол, и вся семья наконец-то собралась вместе».
Сама Валентина Борисовна о возвращении отца вспоминает так: «<…> осень 1945 года. Ранние морозы успели покрыть стёкла в окнах Николо-Дорской школы затейливыми узорами, и я, шестилетняя девочка, леплю монетки на замороженные окна, чтобы увидеть мир через маленькие круглые отверстия. Мама печёт блины… Открывается входная дверь, и в кухню входит худощавый мужчина в шинели, с вещмешком за плечами. Мама роняет ухват, вскрикивает и бросается в объятия. Бабушка бежит за моей старшей сестрой. Вот и они повисли на вошедшем. А я сижу в сторонке и с удивлением наблюдаю за происходящим. Через какое-то время мужчина подходит ко мне, берёт на руки, сажает на тёплую лежанку, достаёт из вещмешка свёрток с чем-то тёмным, похожим на кусок патоки или мыла, предлагает попробовать. Это был шоколад! Запах мне понравился, а вкус – нет: горький. Вот такой “шоколадной” была моя первая встреча с отцом».
Родителям Бориса Викторовича, его жене и дочерям неслыханно повезло. Расставшись с ними в июле 1941 года, он множество раз мог погибнуть на войне и сгинуть в концлагере, как погибли миллионы наших соотечественников. Но, видимо, дед, мать с отцом и жена вымолили для него спасение.
1 апреля 1946 года Борис Викторович был награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне». Эту медаль давали всем фронтовикам, и Борис Викторович получил её по праву. Ведь он прошёл всю войну – от белоснежных полей под Москвой до лагерей в Смоленской области, Белоруссии, Литве, Чехословакии и Германии.
В ПЕРВОЕ ПОСЛЕВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
В январе 1946 года Борис Викторович Прозоровский стал работать заведующим избой-читальней в Щенникове, а с 10 января – учителем физики, математики и завучем Щенниковской семилетней школы (неофициально). В 1952 году он заочно окончил факультет иностранных языков Ивановского государственного педагогического института по отделению немецкого языка*.
* Буквально накануне войны Борис Викторович закончил два курса Московских Центральных курсов заочного обучения иностранных языков. В его личном архиве сохранилось свидетельство Центральных курсов об окончании двух курсов, датированное 30 июля 1941 года (свидетельство уже получили родные Бориса Викторовича). Конечно, в лагерях знание немецкого языка неоднократно помогало ему. Борис Викторович знал немецкий язык (а также французский и латынь, которые выучил самостоятельно) в совершенстве.
То, что Борис Викторович успешно прошёл госпроверку в Германии, ещё совсем не означало, что для него в этом плане всё кончилось благополучно. Над такими, как он, бывшими в немецком плену, ещё долго висел дамоклов меч советского правосудия.
Известно немало случаев, когда арестовывали людей, счастливо прошедших все проверки и вернувшихся домой. Уже из родного дома через полгода, год, два их выдергивали и давали десятку лет лагерей, в которых бывший пленный находился до смерти великого вождя и учителя.
В каком-то смысле возвращение на Родину Бориса Викторовича напоминало возвращение домой в конце 1917 года его отца Виктора Васильевича. Ведь и Борис Викторович для всевозможных властей был не герой-фронтовик, не чудом уцелевший узник фашистского концлагеря, а личность довольно подозрительная и ненадёжная.
В советской идеологической системе не находилось места пленным. Солдат, лишившийся возможности сражаться, должен был или застрелиться или – ещё лучше – подорвать себя и врагов последней гранатой. Но ведь не у всех имелась такая возможность, к тому же в эту схему не вписывались раненые, контуженные и т.д.
Бывшая ученица Бориса Викторовича, В.В. Ефанова, пишет: «По воспоминаниям моего отца – Лапина Василия Константиновича (он был партийным), – я знаю, что после войны Б.В. Прозоровского не раз вызывали в соответствующие органы, и после проведённых там с ним «бесед» всё больше и больше седела его голова».
Характерно, что военный билет Борис Викторович получил в Ильинском райвоенкомате лишь 4 марта 1948 года. И вряд ли дело в бюрократических проволочках. Военный билет – один из знаков гражданской полноправности. Видимо, вплоть до начала 1948 года Бориса Викторовича, как бывшего в плену, всё проверяли и перепроверяли, т.е. дамоклов меч по-прежнему висел над его головой.
* * *
Жизнь Бориса Викторовича в Николо-Доре отмечена великой вехой, разделившей советскую историю на время «при Сталине» и время «после Сталина». В первых числах марта 1953 года наша страна испытала потрясение: по радио был передан бюллетень о состоянии здоровья И.В. Сталина, из чего люди поняли, что великий вождь народов Советского Союза, давно уже воспринимавшийся всеми не как живой человек, а как бессмертное божество лежит при смерти.
Утром 6 марта радио передало обращение ЦК ВКП (б), Совета Министров СССР и Президиума Верховного Совета СССР к народу, в котором говорилось, что «перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и советского народа – Иосифа Виссарионовича Сталина». В стране был объявлен траур.
9 марта, в день похорон Сталина в Москве на Красной площади, по всей стране проходили траурные церемонии. Траурный митинг состоялся в тот день и в Щенниковской школе.
Дочь Бориса Викторовича Валентина вспоминает: «На три дня был объявлен траур. На пионерские галстуки все пришили чёрные ленточки. В них мы и вышли на траурный митинг (он проходил в коридоре). Звучала музыка, выступала директор Т.Н. Кукушкина. Многие плакали».
Огромное большинство взрослых и детей плакали о покойном вожде совершенно искренне. Конечно, Борис Викторович участвовал во всех траурных мероприятиях, проходящих в школе в эти дни. Однако по поводу кончины великого гения человечества он испытывал какие угодно чувства, но только не скорбь. Смерть Сталина несла надежду на перемены к лучшему и в жизни таких, как он, и в жизни всей нашей огромной страны.
По свидетельству его дочери Валентины, «дома отец сожалел, что Виктор Васильевич не дожил до этого дня».
ПОСЛЕСЛОВИЕ
В 1962 году Борис Викторович с женой и матерью переехал из Николо-Дора в село Чернцы Лежневского района Ивановской области, где стал работать учителем и завучем в местной средней школе-интернате.
Оставленное им село Николо-Дор неуклонно хирело. В 1958 году, как писалось выше, произошло разрушение Никольского храма. Позднее закрылась Николо-Дорская школа. 17 июля 1997 года село Николо-Дор было окончательно исключено из учётных данных Ильинско-Хованского района.
Находящееся в 28 километрах от Иванова село Чернцы более всего известно тем, что в 1943–1957 гг. здесь существовал особый «генеральский» лагерь № 48 для военнопленных, через который прошло около 400 немецких, австрийских, итальянских, венгерских, румынских и японских генералов. Лагерь находился в бывшей дворянской усадьбе Митьковых, в которой после революции разместился санаторий для железнодорожников имени П.Л. Войкова. Самым известным заключённым лагеря был фельдмаршал Фридрих Паулюс (1890–1957 гг.), пленённый в Сталинграде бывший командующий 6-й немецкой армией, который находился тут в 1943–1944 гг. После ликвидации лагеря на его территории разместилась школа-интернат.
В 1966 году семья Прозоровских переехала в село Котцыно Ивановского района. В этом селе, в центре которого, как и в Симе, и в Николо-Доре, и в Чернцах, возвышался закрытый и постепенно превращающийся в руину Казанский храм, Б.В. Прозоровский прожил последние сорок лет своей жизни.
30 ноября 1961 года Борису Викторовичу было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». 25 сентября 2003 года он удостоен звания «Почётный гражданин Ивановского района»; 23 августа 2013 года - «Почетный гражданин Ильинского муниципального района» (посмертно).
С годами Борис Викторович всё больше и больше занимался живописью. Выйдя на пенсию, он посвятил себя ей почти целиком. Борис Викторович писал маслом – в основном пейзажи окрестностей Николо-Дора, Чернцов, Котцына. Только изредка он обращался к портретному жанру, когда писал портреты близких людей.
На склоне лет он пользовался всеобщим уважением: участник Великой Отечественной войны, Заслуженный учитель школы РСФСР, Почётный гражданин Ивановского и Ильинского районов.
Борис Викторович Прозоровский скончался в Ивановском областной больнице 16 ноября 2005 года на девяносто третьем году жизни. Похоронен в селе Котцыно.
Циркина Валентина Борисовна - дочь
Отчий дом – это целый мир, особый и неповторимый. В нём всегда примут и помогут, обогреют и усадят за стол. Даже если я там бывала редко, самой жизнью своею Дом помогал мне издали, делал меня уверенней в себе, отгонял дурные мысли и поступки.
И вот теперь там никого нет, и мне кажется, что мой главный корень обрублен.
Корень этот – мои родители, любовью которых созданы семейные ценности: честность и добросовестность, скромность и порядочность, дружелюбие и гостеприимство, взаимовыручка и душевная теплота. Основа мудрости, строгости и справедливости – мой отец, Борис Викторович.
…Привычка называть его папой пришла не сразу. Пока шла война, я знала, что отец «пропал без вести».
Но вот настала осень 1945 года. Ранние морозы успели покрыть стёкла в окнах Николо-Дорской школы затейливыми узорами, и я, шестилетняя девочка, леплю монетки на замороженные окна, чтобы увидеть мир через маленькие круглые отверстия.
Мама печёт блины… Открывается входная дверь, и в кухню входит худощавый мужчина в шинели, с рюкзаком за плечами. Мама роняет ухват, вскрикивает и бросается в объятия. Бабушка бежит за моей старшей сестрой. Вот и они повисли на вошедшем. А я сижу в сторонке и с удивлением наблюдаю за происходящим. Через какое-то время мужчина подходит ко мне, берёт на руки, сажает на тёплую лежанку, достаёт из рюкзака свёрток с чем-то тёмным, похожим на кусок патоки или мыла, предлагает попробовать. Это был шоколад! Запах мне понравился, а вкус – нет: горький.
Вот такой «шоколадной» была моя первая встреча с отцом.
Вечером следующего дня состоялось семейное торжество, по случаю которого от соседей Кукушкиных принесли семилинейную керосиновую лампу. Тогда же я впервые попробовала торт «Наполеон», над которым долго колдовали бабушка и мама*.
* Бабушка – поклонница императора Наполеона, над её кроватью долго висел его портрет.
Семейная жизнь изменилась. Теперь мы с сестрой знали свои обязанности: не просто быть рядом с мамой, а во всем помогать ей, не хватать беспорядочно сухари и овощи, а ждать обеда; ежедневно поливать цветы и раз в неделю мыть с речным песком некрашеный деревянный пол; носить воду с колодца; перед сном мыть ноги… Эту процедуру особенно сложно было делать летом: бегали босиком, и отмыть зелёные от травы пятки было почти невозможно.
Наказывал папа редко, но строго: за ложь – ремень. Было это, правда, лишь однажды.
Жили скромно. Иждивенцев трое: я, сестра, дедушка. Работающих тоже трое: бабушка – учительница начальных классов Николо-Дорской школы, мама – фельдшер Щениковской больницы, папа – сначала «избач» в Щеникове, потом учитель немецкого языка в Щениковской школе. Дед, Виктор Васильевич, ежедневно вёл записи расходов, чертил какие-то графики, планировал необходимые покупки из одежды и обуви, но денег не хватало. Тем не менее, когда младший брат отца, Дмитрий Викторович, пожаловался, что он единственный среди студентов энергоинститута носит до сих пор шинель, отец на все свои отпускные купил ему костюм и пальто. Пара капроновых чулок, привезённая отцом из Москвы, была подарена маме, поскольку «ноги у подростков-девочек ещё недостаточно красивы». Из дядиной меховой куртки мама сшила нам зимние шапки и воротники, прикрепила к стареньким пальто – вот и обновка!
Как-то летом в деревню пришли из Иванова «менялы» и предложили в обмен на хлеб и картошку детские поношенные вещи. Я упросила маму купить ситцевое платье в горошек и сандалии. Она это сделала. Но в тот же день оказалось, что платье расползлось по швам, а сандалии малы. Я всё равно их носила, поджимая пальцы, – очень хотелось быть похожей на горожанку.
С завистью мы смотрели на нашего сверстника Витьку Климова, по прозвищу Генерал, когда он поедал на улице домашние горячие ватрушки (он называл их «туболками»*) и ехидно улыбался.
* Туболками ватрушки называли коренные жители этих мест.
Но и к нам пришёл праздник – купили корову Нежданку с тузом треф на боку, которая стала любимицей бабушки. Молоко, сметана, творог, простокваша, масло – всего в изобилии! Но хлопот-то сколько! Ранним утром надо отогнать корову в стадо в деревню Кутнево (за 3 км), в полдень к реке на дойку, вечером снова в Кутнево – забрать корову домой. Но самой сложной была заготовка сена. Делянок для косьбы колхоз не выделял. И ходили мама с папой с косами, а бабушка с серпом по обочинам дорог, по перелескам и болотам, чтобы наполнить мешок-другой скошенной травой. А потом были предъявлены такие налоги, что выплатить их не было никакой возможности, и от коровы отказались.
Уныния не было: у нас оставался сад с яблонями, сливами, вишнями и ежевикой, огород со всеми необходимыми овощами, картофельная полянка, небольшая пасека, две козы и куры. Рядом с домом – лес с ягодами и грибами, рыбная речка Пашма. Помню, как по утрам я брала удочку, ведерко и с радостью бежала на речку ловить пескарей – клевали отменно! А нужны они были папе в качестве наживки. Он ставил жерлицы и ловил щук.
Собирали на открытых местах первую землянику и представляли, как отец насыплет несколько ягод в ладошку, понюхает, отправит в рот и похвалит не столько ягоды, сколько того, кто их собрал. Было принято в обед разделить лесное лакомство всем поровну, даже если количество составляло всего один стакан.
О заморских деликатесах не мечтали, потому что никогда их не видели, а вот природные угощения ценили. Любили, к примеру, ароматные конфеты из вяленой тыквы и свеклы, которые готовила в русской печи бабушка. Долго смаковали кусочки белого хлеба, когда папа привёз из Москвы батон…
При всей своей занятости отец находил время играть с нами, дочками, и с деревенскими ребятами, среди которых летом были москвичи – моя лучшая подруга Тоня Логунова и её брат Саша.
Как-то папа предложил изготовить мебель для нашей единственной куклы-санитарки, которую купил, возвращаясь из госпиталя, дядя Дмитрий Викторович. Красавица санитарка была в гимнастерке, туго подпоясанной ремнем, в сапогах, в пилотке, с полевой сумкой на плече. В этой сумке с красным крестом лежали настоящие бинт, вата и флакончик с йодом. Вместе с отцом мы сделали для неё из фанеры и картона жилую комнату с кроватью, столиком и табуретками. Однажды склеили и раскрасили огромного змея. Когда он взвился над николо-дорскими просторами, сбежались не только дети, но и взрослые.
Отец научил нас играть в шахматы, в лапту и горелки, передвигаться на ходулях, велосипеде и мопеде. Его руками был сделан чудо-калейдоскоп из разбитого зеркала и фильмоскоп с рисованными бумажными лентами. Потом появился фотоаппарат, научились печатать фотографии – это было волшебство. Одно время я увлеклась выпиливанием, и моя резная шкатулка была отправлена школьной комиссией в качестве сувенира на VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, открывшийся 28 июля 1957 года в Москве.
По просьбе отца его ученик Митя Соловьёв смастерил из берёзы чудо-лыжи. Я не только каталась на них с гор, но и участвовала в районных лыжных гонках и занимала призовые места.
Мама научила вязать крючком. Первой моей работой была сеточка-футляр для чернильницы-непроливайки, которую каждый день приходилось носить в школу. Мы вместе вышивали крестиком и гладью (мама была замечательной рукодельницей). Рисунки для вышивки готовил папа: для мамы - цветы, дракона, Жар-птицу, а для меня – сюжетные картины (например, «Бой Руслана с Головой»).
Отец был большим шутником. Однажды позвал меня в огород и показал висящую на плети огромную тыкву: «Пора срезать!» Взял нож и с большим усилием долго отделял плод от ножки. Принесли домой, чтобы во время обеда съесть тыкву. Взмах ножом – и красная мякоть с черными семечками повергла меня в шок: АРБУЗ! Вот диво!
Как-то ранней весной привёз из Иванова тепличные огурцы. Увидел, что тётка Марья Кукушкина прошла на колодец, и поспешил в огород. Дождался, когда женщина с полными вёдрами на коромысле приблизилась к калитке, вышел навстречу ей с пригоршней огурчиков. Тётка Марья остолбенела: «Ваши?! А у нас только всходят!» – «Мы, Марья Егоровна, давно едим. Не горюйте – поделимся…» Половину огурцов он отдал соседке.
В гостях на новогодней ёлке были у нас дети из Никитинки. Тома Морозова впервые увидела за окном снегирей и спросила: «Что это за птицы?» Получила мгновенный ответ: «Попугаи. Прилетели к нам из Африки»… Девочка поверила.
Отцовские небылицы все принимали за чистую монету, потому что говорил он с большим артистизмом, делая серьезное лицо.
Помню наши совместные поездки в разные города: в Москву, Ярославль, Иваново. Самые яркие впечатления остались от посещения города Ростова Ярославской области. Добирались с папой до железнодорожной станции Итларь (20 км от Николо-Дора) на велосипеде, потом несколько часов ехали до города на поезде, но усталости особой не почувствовали: успели походить по старинным улочкам города, были на озере Неро, а потом отправились в художественный музей, где папа должен был написать копию с какой-то картины. Сначала вместе спустились по узким ступенькам в тёмное подземелье, где лежал каторжник в цепях и кандалах. Мне он показался живым. Я очень испугалась! Но рядом был папа… А вот когда я одна бродила по залам ростовского музея, всякий раз при виде манекенов вздрагивала и сжималась от страха. Эти ощущения почему-то сохранились до сих пор.
Одна из велосипедных прогулок была в деревню Хлебницы Ивановского района. Отец впервые ввёл меня в действующий храм. Захватило дух от величия и красоты внутреннего убранства: сияние золочёных окладов, мерцание свечей, запах ладана… До той поры моё представление о церкви было ограничено двумя картинами: развалинами храма Архангела Михаила возле деревни Колчигино и разрушенной церковью в Николо-Доре. Два мужичка по велению правления колхоза (нужен был кирпич) целую неделю вели подкоп её зимней колокольни, и она рухнула на наших глазах. Грохот, пыль и … монолитные глыбы, разбить которые не удалось никому.
Отец был страстным радиолюбителем: собрал громкоговоритель, потом ламповый радиоприёмник. Вечерами в натопленной комнате при свете керосиновой лампы мы всей семьёй слушали спектакли, оперетты, эстрадные концерты Нередки были и музыкальные вечера, когда слушали классику: Шопена, Чайковского.
Большой знаток и ценитель художественной литературы, отец собрал огромную библиотеку, содержащую не только беллетристику, но и книги по искусству, философии, религии – на русском и немецком языках. Привычка читать ежедневно, сидя за столом с карандашом в руках, сохранилась у отца до последних дней жизни. И домочадцы любили книгу. И мы, дети, читали под его постоянным контролем.
Папа был музыкально одарённым человеком: в юности работал тапёром, позднее прекрасно играл по нотам на баяне, а мама пела. Благодаря их урокам мой сын Александр закончил музыкальное училище по классу гитары.
Не могу не рассказать о событии осени 1950 года, когда во время нашего завтрака ворвался запыхавшийся мальчонка и сказал, что ученик 3 класса, переходя реку по первому льду, провалился под воду. Отец отреагировал мгновенно: выскочил из-за стола, выкатил из чулана приготовленный к зимовке велосипед и по снегу покатил к реке. Толпа собравшихся на берегу молчала. Отец со слегой в руке кинулся в реку, разбивая ею лёд, дотянулся до мальчугана (тот зацепился деревянным ранцем за край полыньи и держался на поверхности воды), вытащил бездыханное тело на берег. Глаза остекленели, изо рта пузыри… Тут и мама с бабушкой подоспели. Завернули Борю Можжухина в чьё-то пальто и понесли в деревню, в первый дом тети Марьи Кукушкиной, бабушки Тони Логуновой, где мама часа два приводила паренька в сознание. И задышал-таки, заговорил…
Отец этого не видел, потому что, переодевшись в сухую одежду и разложив промокшие документы на письменном столе, поспешил в школу. Часа через три мама, по пути в больницу, сообщила отцу радостную весть: «Жив!»
Как были счастливы родители мальчика, как были рады сами спасатели!
За медицинской помощью постоянно обращались к маме. Помню, как она вправляла вывих плеча мужчине, как принимала роды у женщины, не успевшей добраться до больницы, как врачевала девочку, задыхавшуюся от попавшего в горло ореха, как обрабатывала раны мальчику, которого лягнула лошадь… Зимой, бывало, заскрипят полозья саней – мы знали: едут за мамой. Без промедления, не раздумывая, она отправлялась в соседние деревни спасать людей. Такая самоотверженность и милосердие были для неё естественными. Мы же проникались всякий раз ещё большей любовью к ней.
Школьные годы были радостными и пролетели совсем незаметно. Более талантливого преподавателя, чем мой отец, я не встречала, хотя мой педагогический стаж 50 лет. Глубокие знания, принципиальность, воспитанность, умение слушать и слышать, желание помочь, научить каждого – это было присуще Борису Викторовичу, и он пользовался непререкаемым авторитетом среди коллег и учащихся.
Школьная стационарная электростанция, радиоузел, стенгазета, кружки по интересам, тематические вечера отдыха, заседания учкома, выездные концерты для родителей – всё это заслуги завуча Прозоровского.
Я тоже была его ученицей. Когда сдала на отлично вступительные экзамены в ИГПИ, преподаватель спросила: «Кто Вас так хорошо научил немецкому языку?» – я с гордостью ответила: «Мой папа». До сих пор помню наизусть «Лорелею» Гёте:
Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
Мне все не даёт покоя
Старинная сказка одна.
Ich weiss nicht, was soll es bedeuten
das ich so traurig bin.
Ein Marchen aus alten Zeiten,
das kommt mir nicht aus dem Sinn.
Die Luft ist kuhl und es dunkelt,
und ruhig fliesst der Rhein.
Der Gipfel des Berges funkelt
im Abendsonnenschein.
Многочисленные публикации отзывов, воспоминания учеников и коллег об отце создают образ настоящего Учителя.
Школу я закончила в 1957 году, уехала учиться в Иваново и дома бывала только в каникулы. В 1962 году закончила ИГПИ, вышла замуж и отправилась с мужем в Сибирь. Родилась дочь, потом сын – семейная жизнь удалась на славу. С родителями общалась, в основном, с помощью писем.
Изменилась и их жизнь. Из Николо-Дора переехали в село Чернцы Лежневского района, где отец работал завучем школы-интерната, затем в село Котцыно, что расположено в 20 километрах от Иванова.
Как бывает во время переезда, многие вещи были выброшены или утеряны. Мне жаль оставленные в Николо-Доре чердачные сокровища: старинные ёлочные игрушки и подшивки журнала «Сатирикон».
Отцу предлагали работу и квартиру в Иванове – отказался. Деревня, тишина, безыскусность жизни, простота отношений, тёмная гладь реки и шатёр кудрявой ольхи, трели жаворонка – вот что всегда ценил и от чего не мог отказаться Борис Викторович. «Природа никогда не обидит, – говаривал он. – Болит голова? Идите в лес – всё пройдёт». Так оно и было.
Маленький школьный домик в Котцыне был обустроен в прежних традициях: старинная мебель, книги, картины, грампластинки, ручная швейная машинка «Singer»… Позднее, благодаря хлопотам Н.Н. Москалёвой, председателя Обкома профсоюзов учителей, дом с участком был передан в собственность семьи Прозоровских.
Непрерывная работа над собой, поддержание физической формы, добросовестное выполнение служебных обязанностей – эти привычки тоже сохранились. Огород, пасека, саженцы яблонь, кормушки для птиц напоминали Николо-Дор, переставший существовать, к великому сожалению, сразу же после отъезда Прозоровских. На месте моей родины сохранились лишь кладбище, где похоронен дед Виктор Васильевич, да яблоня-антоновка, превратившаяся в дичок. Заросли иван-чая на развалинах домов, высохший ручей вместо реки Пашмы, молодые берёзы и сосны на прежних полях – всё производит удручающее впечатление…
В начале 80-х моя семья переехала в Иваново, встречи с родителями стали еженедельными, и котцынский дом начал обретать черты Отчего.
Здесь облегченье ты найдёшь
Печалям и недугам.
Ты добрым гостем в дом войдёшь,
Уйдёшь хорошим другом.
Расул Гамзатов
Сюда я ехала, прежде всего, за советом. Наши беседы не были длинными, но всегда откровенными и поучительными. Говорили о детях, о друзьях, о переписке, о досуге, о политике, но самой злободневной была педагогическая тема.
- У Вас нет постоянного расписания уроков? Как же так? От хорошо продуманного расписания зависит вся работа школы. У меня постоянное расписание было готово уже в августе.
- Кто твои помощники в классе? Создай актив из самых непослушных детей, сумей расположить их к себе, и они станут твоими друзьями.
- Никогда не отступай от своих требований, выполняй обещания, контролируй отрицательные эмоции, будь искренней и справедливой.
- Беседуя с родителями, назови все лучшие качества ребенка и лишь потом говори о недостатках.
- Как бы ты поступила в такой ситуации? А в такой?
Живо рисовал картинку начала урока: входишь в класс, а дети не замечают тебя – кричат, прыгают, кидаются линейками. Как быть?
- Начни спокойно и тихо разговаривать с учеником, сидящим за первой партой.
Пробовала не раз – помогало.
Отец отдал мне свои планы воспитательной работы, книги, вырезки из журналов и газет, необходимые для проведения классных часов и родительских собраний.
Как-то краем уха услышала, как папа в разговоре с гостями похвалил меня: «Валентина у нас талантливая учительница». Жаль, что он не порадовался моей победе в конкурсе «Лучший учитель России» и «Ордену детских сердец».
Мои успехи – это его заслуги.
Окончательно уйдя из школы, отец целиком посвятил себя живописи. Божий дар и ежедневный кропотливый труд, творческое общение с ивановскими художниками, переписка с А. Грицаем, М. Куприяновым, дружба с М.С.Агеевым, народным художником России, жившим в Иванове и часто приезжавшим на этюды в Котцыно, изучение классических образцов живописи позволили отцу создать десятки прекрасных полотен. Начав по существу с любительских этюдов, Борис Викторович шел от непосредственной фиксации натуры к ее осмысленной о обобщенной передаче на холсте.
Крепла уверенность в себе, рождался свой почерк и собственное видение мира. Пристально наблюдая природу, изучая ее состояния во все времена года, художник постепенно пришел к мастерству.
В его пейзажах редко встретишь бьющие в глаза краски. Всё просто, сдержанно и непритязательно. Пристально вглядываясь в суть природы и жизни, он искал в них потаённую истину, чтобы постичь её самому и объяснить нам.
Отца часто спрашивали: почему он изображает пейзаж, природу, а не портрет или жанровую картину. Он говорил, что пейзаж – это самая эмоциональная, самая выразительная часть изобразительного искусства, что пейзаж никого не оставляет равнодушным, он близок и понятен каждому человеку. При этом отец ссылался на слова знаменитого художника Шишкина, который говорил, что «истинный художник – это пейзажист, его чувства глубоки и чисты; только пейзажист может по-настоящему показать единство человека и природы и выразить радость жизни».
Земля и деревья, вода и отражение в ней, туманные дали и солнечный свет – все это волнует и восхищает душу.
Простые мотивы пейзажей Бориса Викторовича имеют одно общее свойство – правдивость. Его любимое время года – осень. Художник видел и яркие краски золотой осени, и нежные тона ее хмурых дней.
Чувство безграничной любви к природе - вот то, что заставляло художника браться за кисть и находить темы для своих полотен.
«Пейзажи Прозоровского наполнены глубоким жизнелюбием, а в ряде своих работ он поднимался до философских высот и обобщений. Праздник цвета, праздник глаза – это результат постоянных творческих усилий и находок трудолюбивого художника.
Вот почему от его пейзажей бывает так светло и радостно на душе» (В.Степанов).
В 1982 году в областном Доме учителя, директором которого была Козлова Альбина Фёдоровна, прошла персональная выставка Б.В. Прозоровского. Все свои работы он подарил Дому учителя, где они, до момента закрытия учреждения, находились в постоянной экспозиции.
Точно так же поступил он в 1985 году и с работами другой выставки, 16-ой по счету, передав их Ильинскому Дому народных ремёсел. Я была вместе с отцом на открытии выставки и видела его радостные встречи с пришедшими сюда ильинцами, среди которых были представители районной администрации, коллеги из Щениковской школы, бывшие ученики. Отец был тронут искренним признанием Валентина Хрящёва, директора Аньковского совхоза, в том, что его карьера и должность – заслуги учителя Прозоровского*. Отец обрадовался и покупке своей картины известным ивановским коммерсантом Власовым.
* Не раз посещая деревню Бордовое, Борис Викторович убеждал родителей Валентина и его самого в необходимости учиться, а потом помог успешно закончить среднюю школу.
Очередная персональная выставка из сорока произведений живописи проходила осенью 2001 года в здравнице ИСПО (Ивановского станкостроительного производственного объединения). И снова Борис Викторович безвозмездно передал свои произведения профилакторию объединения. Во время банкета, на котором отец отсутствовал, директор ИСПО В.М. Бажанов обещал взять шефство над семьёй Прозоровских.
Автор книги «Рассказы о художниках» Владимир Алексеевич Степанов дал справедливую и верную оценку отцовскому жизненному кредо: «Дарственные приношения художника Б.В. Прозоровского сопоставимы с гражданским подвигом, который вполне заслуживает широкого признания со стороны общественности… Потребность своими глазами видеть приятное удивление человека, которому ты доставил радость, – это для Бориса Викторовича формула жизни».
Его картины разлетелись по всему миру. В Америке, во Франции, в Израиле, в Германии, на Украине, в Сибири его скромные пейзажи с дарственными надписями греют душу соотечественников. Как-то я спросила: «Тебе не жаль расставаться с работами?» «Нет, – ответил он, – картины должны жить, а я получил удовольствие , -когда писал».
Его милосердие и бескорыстие проявлялись в благотворительности. Всю жизнь в нашей семье не было материальных излишеств, но отец щедро делился накопленным не только с родственниками. В последние годы по просьбе Бориса Викторовича я не раз посылала от его имени денежные переводы чужим людям, попавшим в беду: матери инвалида Чеченской войны, лишившегося зрения; многодетной женщине, оставшейся без мужа; семье, потерявшей кров из-за наводнения. Знаю, что он перечислял деньги на строительство Храма Христа Спасителя. «И мой кирпичик в нём есть»,- радовался отец. А на девяностом году жизни он посылал денежные переводы и посылки в тюрьму вору, обокравшему его в Иванове!
В отчем доме постоянно бывали гости: деревенские ребятишки, которым отец давал уроки рисования; сельские учителя; люди из районной администрации; художники, журналисты.
Как-то отец рассказал о встрече с Ларисой Ивановной Щасной, ивановской поэтессой. Беседа, как обычно, велась за накрытым столом. В разгар застолья отец неожиданно продекламировал:
Продышала маленькая речка
Толщу снега и наплывы льда.
Словно бы пульсирует сердечко –
Так толчками движется вода…
Лариса Ивановна была тронута до глубины души и расплакалась. И было отчего: в глухой деревне незнакомый человек преклонного возраста знает наизусть её стихи!
Однажды приезжаю утром и слышу музыку в доме: «…где встречала с мамой я рассвет»… Оказывается, папа купил магнитофон «Sony» и записи песен Маши Распутиной, одобрил. Хвалил за естественность и простоту телевизионную передачу «Играй, гармонь!» С восторгом отзывался о кинофильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок» и концертах танцевального ансамбля Игоря Моисеева. Радовался победам братьев Кличко. А вот о прочитанной книге Сорокина «Голубое сало» заметил: «Будто руки в дерьме испачкал. Умылся – и открыл Чехова…» Ко всему, что стояло за порогом порядочности, он был непримирим.
В последние годы начали одолевать хвори: болела поясница после того, как чистил снег во дворе; отекали ноги после сна – стал ходить с палочкой; тряслись руки; в глазах не стало обычной ласки. «Осталась одна оболочка», – с горечью признавался отец. Тело отказывалось жить, но дух не был сломлен. Мне он по-прежнему казался Титаном, несгибаемым и вечным…
Папа умер 16 ноября 2005 года.
Мы успели попрощаться, прикоснулись руками и по-христиански попросили друг у друга прощения. Но ощущение вины у меня не исчезает. Наверное, не всё я делала так, как хотел папа. Одновременно я не перестаю благодарить судьбу за то, что моя жизнь была подарена замечательными людьми. Родители научили меня, моих детей и внуков жить по совести, ценить Вечное.
Ахмадщина Марина Вадимовна - внучка
Дед не любил рассказывать о Великой Отечественной войне, считая, что война – это, прежде всего, трагедия, боль и отчаяние. Однако одну историю мы знаем.
…1941 год, начало войны. Бориса Прозоровского мобилизовали в Красную армию и направили на 2-х месячные подготовительные курсы старших сержантов во Владимирское пехотное училище. Когда выяснился срок его переброски на фронт, Александра немедля отправилась проститься с мужем. Без устали шла она 3 дня пешком день и ночь по осенней разбитой дороге от Никола-Дора до Владимира – а это около 130 км – плохо одетая и голодная. Когда сил не оставалось – пела. Во Владимире Бог дал свидеться: мужа на час отпустили из казармы. Прощались они навсегда. Борис попросил передать своей матери последнее письмо, в котором просил Надежду Николаевну прощать жену за всё ведомое и неведомое, «потому что она совершила подвиг».