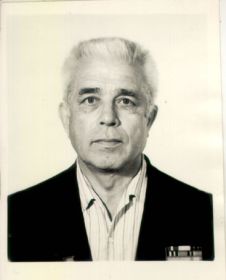Мазит
Валеевич
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
История солдата
Из сочинения (внука Азата) по воспоминаниям своего деда.
Мой дед Валеев-Апакашев Мазит Валеевич один из рядовых Великой Отечественной войны.
Он воевал с фашистами в составе танковой бригады, в стрелковой роте на Западном, Брянском, Прибалтийских и 3-ем Белорусском фронтах.
Мазит Валеевич награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями.
Мазит Валеевич появился на свет в октябре 1924-го. Ему рассказывали, как мать, управившись с картошкой на огороде, пошла к соседям помыться в баню. Там он и родился.
К роковому 30 году в семье их было шестеро детей. Старшей сестре исполнилось 14, младшей - полтора годика. Отец, соблазнившись посулами новой экономической политики, на паях со старшим братом приобрел лавку, как сейчас говорят, товаров первой необходимости. Но крестьянский труд не оставил, свой надел земли обрабатывал сам, без посторонней помощи. Да и в лавку работников не нанимали. Торговал брат отца, а он сам возил товар из города. Удар по НЭПу разбил не только их скудное предприятие мелкой торговли, но и семью. Из райцентра или из города нагрянули уполномоченные, лавку конфисковали, владельцу (а лавка была записана на имя отца) приказали собираться в дальнюю дорогу, в Сибирь. Брату отца удалось упросить уполномоченных оставить троих детей, все легче будет в дороге, все больше надежды выжить в чужом суровом краю.
По каким только местам Сибири не носило разоренную семью татарского крестьянина, чем только не приходилось заниматься: гнули горб на золотых приисках возле китайской границы; собирали в тайге живицу, работали на лесосплаве...
Глава семьи (мой прадед) умер через три года в далекой Иркутской области на станции Зима. Это случилось осенью. Орудуя тяжелым багром, он потерял равновесие, упал в студенную воду, сильно простудился да так и не поправился.
Сколько уж лет прошло, стала совсем седою голова у Мазита Валеевича, а сердце также щемит при воспоминании о том черном дне, когда стало известно о смерти отца. Он помнит, как, сжавшись в комок, сидел в классе деревенской школы и, не мог унять слез.
Бедно в то время жила деревня, а уж они, лишенцы, хлебнули нужды сполна. Дядя старался заменить им отца, но ему и самому приходилось несладко: был он у же не молод, фактически разорен, тяжело переживал потерю брата.
Племянники изо всех сил старались не подводить его. В начальной школе они учились в своей деревне, а семилетку кончали в соседней. Изо дня в день мерили версты то осенней, то зимней, то весенней проселочной дороги. Одно благо: не тяжела холщевая сумка-тетрадка, книжка да сваренная в супе картофелина на обед.
У них с братом было две книжки на двоих. По ним и учились, приобрести другие не было денег, иметь лишнюю тетрадку считалось роскошью. Но верно говорят: голь на выдумку горазда. Чуть ли невесь годовой курс обучения умещался в одной тоненькой тетрадочке, так убористо научился писать Мазит, экономил каждый клочок. Сейчас Мазит Валеевич шутит: "Вот когда был сделан первый шаг к профессии" (Он работал главным бухгалтером объединения).
Учителям он смотрел прямо в рот, а так как книг практически не было, додумался конспектировать.
Каждый раз, когда дядя возвращался из школы с родительского собрания, лицо его, сияло радостью: учителя хвалили ребят, прекрасно учатся, смышленые, старательные.
После ненастья ураган.
В школе Мазит больше всего любил упражняться с цифрами. Поэтому и выбрал финансово-экономический техникум. В 39 году поехал в Казань, подал в этот техникум заявление и был принят, хоть стать студентом оказалось непросто: на сто мест претендовало 500 человек. Тогда редко кто из их деревни уезжал в город.
Двое-трое ребят из его выпуска отважились попытать счастье на стороне. Нелегким было и это счастье. В городе жилось трудно. В 40 году, в финскую кампанию, ввели карточки - 700 граммов хлеба в день на человека. В магазинах продавали хлеб и без карточек, но очереди за ним были бесконечны, так что кусок сверх нормы добывался непросто.
В это же время ввели плату за обучение. Валеева, как сироту, от оплаты освободили. Вдобавок, как наиболее успешно "занимающийся" он получал стипендию.
Студенческая жизнь шла своим чередом, хоть и не отличалась особой размеренностью и стабильностью. Приближался роковой 41-й, занятия теперь шли по вечерам в старом здании КФЭИ- на улице Карла Маркса. Туда они добирались с улицы Красной позиции из общежития.
По пути чуть ли не каждый день видели, как с Арского поля из Красных казарм шли грузовики с высокими бортами. Возле трамвайного парка стоял регулировщик, направляя колонны на улицу Горького.
Вечером в том же направлении маршировали солдаты с полной боевой выкладкой. Глядя на них вокруг говорили: "Проводят маневры". В начале апреля в техникуме организовали лекцию о международном положении. Запомнились слова лектора: "К границам нашей Родины стянуто 200 германских дивизий".
Экзамены за второй курс походили к концу, когда пришло известие о войне. Все, что казалось таким важным за минуту до этого момента, вдруг поблекло. Черный репродуктор притягивал к себе, словно магнит. Слова из выступления Молотова: "Германские войска вероломно напали на Советский Союз" - прочно и тревожно отпечатались в умах и душах людей.
Война! Проводы, слезы, четырехсотграммовая норма хлеба на день, все куда-то переселяются, едут... Техникум перебросили в Канаш, занятия проводили, где придется, все больше урывками. Главным стало разгружать и загружать вагоны на станции, рыть окопы и противотанковые рвы от Канаша к Казани.
К зиме 41-го в тяжелом положении оказалась Москва. В декабре сковали землю лютые морозы. Плохонькая одежонка не спасала от холода. Каждому, кто шел на рытье окоп, выдавали лапти. К концу дня они превращались в мочало.
Не все люди выдерживали такое напряжение. Из родной деревни сообщили горькую весть: пропал без вести дядя. Его забрали на рытье окоп. А когда отпустили, он, немного отдохнув у родственников в Казани, поехал домой.
Но до деревни так и не добрался. Что с ним случилось? Из Казани до Арска обычно добирались поездом, а от станции до Кышкара надо было идти пешком километров 25. Может быть, не по силам оказалась продуваемая всеми ветрами зимняя дорога в родную деревню, обессилел измотанный тяжелым трудом старик (хоть и было-то ему всего 57 лет от роду), сбился с пути, замерз? Или еще что? Розыски ничего не дали. Сгинул человек. И все.
Сильнее голода, холода и тяжелой работы пробирали такие вести. Кого ни коснись, у всех было так: тяжело на душе, пусто в доме, одна мечта - выжить.
Аттестат об окончании техникума Мазит Валеев получил в январе 42-го, а вместе с ним направление в Атню, в Райфиноотдел экономистом по налогам. В его задачу входило инспектировать агентов, собирающих налоги с населения: следить за правильностью обложения, своевременностью сбора. В общем-то, что делать ему было ясно. Но как морально тяжела была эта ясная по инструкциям и циркулярам работа для вчерашнего деревенского паренька.
Старики да солдатки с малыми детьми. Где взять им те немалые суммы за огород, за скот, чем уплатить военный налог? Но строг и неумолим был закон, он предусматривал и опись имущества у не сумевших заплатить налог.
Странное дело: деревня из года в год пахавшая, сеявшая, убиравшая хлеб, досыта его так и не ела. Люди, ходившие день-деньской за скотиной, вкус мяса чувствовали лишь по праздникам.
Куда-то уплывали от крестьянства молочные реки, не зачерпнуть и лишней кружки. Лишь соленый пот, никогда не проходящие мозоли, дубленая ветрами кожа, сутулые спины, удобные для многопудовых мешков, доставались в награду.
Сколько себя помнил молодой экономист, всегда было так. Каждое лето, начиная с 5-го класса, он с братом работал в колхозе. Их ставили помощниками бригадира, что заставляло их гордиться и стараться одновременно. С петухами, в три часа утра вставали они, а возвращались с поля чуть ли не затемно. В их обязанности входило завозить продукты на полевые станы, быть на подхвате у взрослых во время работы, учитывать сделанное: мерить землю, записывать снопы.
Порою тетя, жалея ребят, будила их на час позже, но это скорее огорчало: они же могут не успеть, что тогда подумают про них люди, чего доброго назовут лентяями.
Мазит был небольшого росточка и очень худенький. Это обстоятельство особенно расстраивало его, когда надо было запрягать лошадь: хомут поднять проблема, а надеть его на Пегашку удавалось лишь с телеги.
Вклад каждого оценивался трудоднями, на один - 300 граммов хлеба. Получить заработанное можно было лишь после сбора урожая. Хорош он будет или плох, зависит от многих обстоятельств, и не только от погодных.
Ведь от общего каравая приходилось отрезать солидные ломти. Один - госпоставка, второй - натуроплата (за технику - трактора да комбайны) , третий возврат семенного фонда. Все, что осталось твое, колхозника, правда, за минусом съеденного за время работы.
Надо ли говорить, какой несоразмерной затраченному труду и скудной была добыча? На нее не прожить семье крестьянина еще и потому, что в прямом смысле не хлебом единым жив человек. На мыло, сахар, одежду, утварь требовались деньги. А ведь им в колхозе не платили. Добывались медные на своем подворье да огороде.
Люди старались как-то приспособиться к обстоятельствам, извернуться от их прямых ударов.
Так, в некоторых колхозах не пускали трактора и комбайны на поля, все делали сами, вручную, а часть урожая, которая пошла бы на оплату техники, делили меж собой.
Про них с завистью говорили - богатые. У себя, в Арском районе, Мазит Валеевич помнит два таких «богача»- "8 марта" и "Спартак".
Недолго проходил Мазит Валеев в экономистах по налогам. Тяжелые бои шли под Сталинградом, немалые были потери. Так что писари военкоматов засели строчить повестки парням 24-го года рождения.
Мазит успел лишь сбегать в свою деревню (12 километров туда и столько же обратно), простился с родными, собрал наскоро вещи и - на призывной пункт. Комиссию смутил его рост – 149 сантиметров. Повели к военкому. Тот, как-то грустно сказал: "Ничего, подрастет. Запишите в пехоту".
Так он стал рядовым 23-го запасного стрелкового полка, который расположился в лесу в шести километрах от Ижевска. Что будет с ними дальше, новобранцы не знали. Поговаривали, что часть отправят на фронт через месяц подготовки, а других, грамотных, задержат на полгода для обучения на младших командиров.
Когда стали сортировать, скомандовали: " Грамотные - в одну сторону, неграмотные - в другую". Валеев предпочел оказаться среди неграмотных. Так делали многие, стремясь быстрее попасть на фронт, и главным образом из-за того, что здесь, в лесу, их кормили так, что можно было протянуть с голодухи ноги. Кстати, до них доходили слухи, что такое и на самом деле случалось. Например, в Суслонгере, в Марийской АССР, у соседей.
Но хитрость его была вскоре обнаружена. И, правда, не полгода, а три месяца, он учился на командира расчета станкового пулемета. Курс наук был предельно краток: обучили собирать и разбирать станковый пулемет, показали, как стрелять из него. Разъяснили тактику нападения и обороны, и под новый 1943 год отправили на фронт.
Товарные вагоны прогромыхали через всю Татарию, оставляя позади Агрыз, Кукмор, Шемордан, Казань. Лишь изредка слезали солдаты со своих нар, чтобы взглянуть, может быть, в последний раз на родные края. Лишь изредка, на остановках выходили из теплушек, удивляя людей своим видом. "Какие вы бледные, солдатики, из госпиталя что ли?" - спрашивали их. ,
Впервые досыта наелись в юдинской станционной столовой, к перловой каше получили в придачу сухарей. И так доехали до Москвы, о которой знали все, но которую увидеть в тот раз не пришлось.
С августа 42-го по март 43-го растянулся путь рядового Валеева на фронт, туда, где только что отгремела битва за Сталинград и надвигалось танковое сражение под Курском. Сильно поредели ряды защитников Отечества под волжской твердыней. Влиться в них и укрепить предстояло необстрелянным желторотым юнцам. В марте 43-го после долгого изнурительного марша подошли они к линии фронта. В составе танковой бригады, в стрелковой роте, предстояло новобранцу Валееву принять первый бой. Враг, хоть и битый, испытавший лишь месяц назад сокрушительный удар, был ещё очень силен, а главное – коварен. Немцы отменно владели тактикой боя. В чем, к несчастью очень скоро, пришлось убедиться.
В предстоящей операции надо было овладеть небольшим городком, занятым немцами. Предполагалось провести ее так: разделить танковую бригаду на две части, одна из них ворвется в город, выманит противника, вступит с ним в бой, а вторая, резервная, ударит с тыла в самый разгар схватки. Но судьба распорядилась иначе. В ловушке оказались вошедшие в город: зажатые со всех сторон, они были уничтожены в считанные минуты. Валеев был в другой, резервной, не успевшей и подойти на подмогу.
Тысячами жизней расплачивались фронты за слабости и прорехи в науке воевать. Полегли чуть ли не все солдаты первых призывов. Как часто гибель их была нелепой и бессмысленной. Нередко заведомо посылались они на верную смерть. Наказ Суворова - воюй не числом, а уменьем – известный всем на Руси, на деле не выполнялся, оставался пустым звуком, всего лишь умным изречением. За такую забывчивость платили страшную цену тысячи простых советских людей. И лишь огромные потери заставили думать о солдатах, о том, как сохранить, уберечь их.
Смерть на войне не диковинка. Но все же смириться с ней, привыкнуть к мысли, что жизнь может оборваться в любую минуту, душа не хотела. Надежда выжить, уцелеть жила в ней вопреки всему.
Хитроумным, неистощимым на удары "из-за угла" был враг. Для Мазита Валеевича памятно сражение на Курской дуге, как боевое крещение. Танки, за башнями которых сидели автоматчики их стрелковой роты, прошли лощину и стали взбираться по чуть ли не отвесной искусственно сооруженной стене, как вдруг сзади из разбитой немецкой машины пошли косить автоматные очереди. Сколько ребят полегло из-за такой оплошности! Не заметили засады.
Но черед "отблагодарить" противника за коварство и хитрость наступал. Рассчитывались той же монетой в рейдах по вражеским тылам. В такой операции было решено использовать три танковые бригады, в том, числе и ту, в которой служил Валеев. Лесами, проселками, болотами пробирались быстроходные Т-34 во вражеский тыл. Шли ночью, а с рассветом внезапно обрушивались на спящего противника, били его без пощады. И также внезапно исчезали, оставляя в страхе и панике уцелевших фашистов. До следующего приказа укрывались, как могли, тут же на занятой врагом русской земле. Преследователей не приходилось долго ждать. Порою удавалось лишь врыться в землю, сделать круглый окопчик, как над головой, поливая свинцом, появлялись самолеты.
Сколько раз благодарил судьбу Мазит Валеев за такое простое и такое бесподобное изобретение, как этот круглый окопчик. Сложной мишенью был он для стрелка с воздуха. Куда сподручнее уничтожить человека в простом окопе, весь как на ладони.
Однажды самолет пролетел над головой так низко, что стало видно лицо пилота и даже его глаза за стеклами массивных защитных очков. Как коршун над добычей, кружил он над солдатом, но взять не смог.
Неделями без сна шли по тылам врага. На рассвете – бой, ночью – переброска. Лишь чуть-чуть удавалось вздремнуть, привязав себя к башне танка. Ничто не мучило так сильно, как невозможность хоть немного поспать. Оказывается, голод и холод человек переносит легче, чем такое бесконечное вынужденное бодрствование.
Война – самая тяжелая, грязная, проклятая, каторжная работа, за которую каждый труженик ждет лишь одной награды – жизни. За каждый час, за каждый день приходиться благодарить судьбу. Жив – повезло, не искалечен – счастлив.
Обычно орденами и медалями награждали воинов после успешно проведенной операции. За взятие населенного пункта на Брянщине награжден Мазит Валеевич орденом Красной Звезды. Этот день, 23 сентября 1943 года, считает он своим днем рождения. А было это так. С заходом солнца танки двинулись по направлению к селу, которым предстояло овладеть. Надо было выбраться на холм, проскочив болото. В нем-то и завяз танк, на котором был Валеев. Он бросился догонять переднюю машину, но тщетно. Вернувшись назад, увидел, что танк горит: пробило запасной бак с топливом. Мазит бросился тушить, но огонь привлек внимание группы фашистов, внезапно появившихся на склоне холма. Они решили завладеть танком.
В мгновение ока Мазит залег в небольшую ямку, оказавшуюся тут же поблизости, и стал отстреливаться.
- Сдавайся, сволочь,- кричали на чистом русском языке. Отборный мат слышался в перерывах между выстрелами.
"Власовцы, наверное,"- подумал Валеев. Как назло заклинило автомат. Неизвестно, чем бы закончилось дело, если б не появился отставший танк…
Тысячи километров прошагал военными дорогами рядовой Мазит Валеев, пришлось посидеть на дне "мешка" (с трех сторон зажатыми противником, имея лишь небольшой просвет с четвертой), пройти по Литве, встретить Победу в Пруссии и ещё два года ждать демобилизации.
И все –таки я счастливый
Когда моего деда спрашивают, счастлив ли он, отвечает : "Конечно! На войне я даже не был ранен. Лишь только раз контузило. Мне везло на хороших людей, на фронтовых друзей. В 44-м я стал ординарцем замполита. Прекрасный человек, доброволец, настоящий коммунист. Он со студенческой скамьи из Ленинграда ушел на фронт. Так вот он говорил: "Мазит, ты мне брат". Всего лишь на пять лет меня старше. Я не помню, чтобы Александр Астафуров, так его зовут, говорил перед нами громкие речи. Он не призывал нас любить Родину. Он честно и храбро сражался за нее. И вот такой его пример был для нас сильнее всех призывов и парадных речей.
Если выживем, обязательно встретимся, обещали мы друг другу. И встретились. Я разыскал его через 20 лет. Теперь дружим семьями.
Обездоленным было мое детство, но я не сбился с пути. Меня не раздирала, не разрушала злость и зависть, я не носил в душе ненависти, несмотря ни на что. Через 17 лет я снова увидел, обнял мать, братьев. Я так был счастлив, когда узнал, что они вернулись. Меня из Пруссии отпустили на две недели на побывку, и я, как на крыльях, летел на свидание с родными.
Своему старшему брату Хамиту я буду до конца жизни благодарен за то, что добился нашего соединения. Сразу же после войны он, кадровый офицер, занимавший генеральскую должность, стал ходить по разным инстанциям. Просил, чтобы матери разрешили вернуться. Ведь несправедливым, бесчеловечным было изгнание.
Рискуя жизнью, сыновья разоренной, отверженной семьи доказали свою преданность Родине, никогда и ничем не запятнали честную фамилию отца Апакашева Габдельвали Валеевича".
Валеев-Апакашев Хамит Валеевич, старший брат моего дедушки, относится к героическому поколению победителей, которые в 1941 году с первым призывом родины, двадцатилетними , ушли на фронт. И прошагал он в солдатской шинели долгие четыре года по своей и чужой земле.
Пройдя с боями земли Польши, Чехословакии, Венгрии, побратавшись с американцами на Эльбе, гвардии капитан, командир артиллерийского дивизиона, мирную тишину услышал в Австрии.
Родина высоко оценила подвиги своего сына, наградив Хамита Валеевича двумя орденами Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды и десятью медалями.
После войны гвардии полковник Хамит Валеевич многие годы служил в войсках Прикарпатского военного округа, командовал полком, был начальником артиллерийского соединения.
Сейчас мой дедушка Мазит Валеевич, будучи репрессированным в составе семьи, участвует в общественной организации жертв политических репрессий РТ и Советского района г. Казани.
Он добился увековечивания памяти в дополнительных томах "Книги Памяти" 159 павших на войне воинов-односельчан. Всего их-322 человека.
Он заслуженный экономист Республики Татарстан.
Боевой путь
август 1942-февраль 1943 -курсант 23 Зап. стрел. полка (МВО)
февраль 1943-декабрь 1944 -стрелок-автоматчик 89 танковой бригады 1 танкового корпуса (Западный Брянский, I и II Прибалтийский, III Белорусский фронта)
декабрь 1944-март 1947 - старшина-писарь снабжения 89 танкового полка 1 танковой дивизии (г.Калининград)
После войны
Мазит Валеевич, будучи репрессированным в составе семьи, участвовал в общественной организации жертв политических репрессий РТ и Советского района г. Казани.
Он добился увековечивания памяти в дополнительных томах "Книги Памяти" 159 павших на войне воинов-односельчан. Всего их-322 человека.
Он заслуженный экономист Республики Татарстан.