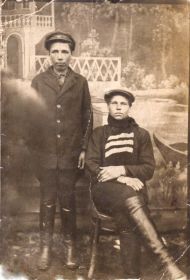Василий
Иванович
ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ
История солдата
Василий Иванович Ежов, родился 30 декабря 1908 года в деревне Воронино Черемисской волости Екатеринбургского уезда в семье крестьян. После службы в Армии вместе с семьей выехал в Хабаровский край.
В самый разгар Великой Отечественной войны 23 августа 1942 года Мазановским РВК Василий Иванович был мобилизован в Действующую Армию. Больше года он воевал в составе 30-й отдельной стрелковой бригады в должности командира стрелкового отделения. 1943-1944 годы – он командир отделения сапёров 374 стрелкового полка. Далее Василий Иванович, храбро продолжая отдавать свой воинский долг Родине, был назначен помощником командира взвода миномётов 653-го миномётного полка, 65-й Армии.
Известно, что в составе этого полка 2-го Белорусского Фронта старший сержант Василий Ежов принимал активное участие в боевых операциях при освобождении Польши от фашистских захватчиков. В память о тех днях вместе с письмом с фронта он послал семье фотографию с текстом: «Отечественная война. Оборона реки Нарив, Польша, 1944 год. Ноябрь месяц. Друзья по оружию».
Подвиги старшего лейтенанта Ежова, совершённые на польской земле отмечены в 1945 году медалью «За отвагу». Архивный документ военной поры об этом свидетельствует: «Командира миномётного расчёта 1 минроты 1 стрелкового батальона старшего сержанта Ежова Василия Ивановича за то, что он в наступательном бою с немецкими оккупантами 19.01.1945 г. за дер. Сокольники Сохоцинского уезда Варшавского воеводства умело командуя расчётом, выдвинул свой миномёт к укрытию и открыл губительный огонь по засевшим в селе немцам. Этим самым вынудил последних к быстрому отходу и дал возможность нашим стрелковым подразделениям овладеть указанной деревней. 26.01.1945 г. в районе населённого пункта Розайнен (Вост[очная] Пруссия) тов. Ежов стойко и мужественно огнём своего миномёта отражал атаки противника, обратив последнего в бегство».
Победа застала Василия Ивановича в самом центре вражеской Германии – в Берлине, но до самого окончания войны оставалось ещё несколько месяцев, именно тогда он получил ранения в глаза и контузию. В 1945 году в госпитале отметили, что ранение незначительное, лёгкое. Медики просмотрели образовавшуюся гематому сосудов головного мозга, которая, спустя годы, спровоцировала развитие тугоухости.
Закончилась война для скромного военного только в ноябре 1945 года. В «Орденской книжке» Василия Ивановича Ежова за № 325409, кроме медали «За отвагу» значились и другие заслуженные им награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль «За освобождение Варшавы» и юбилейные медали.
Не стало Василия Ивановича Ежова 26 мая 1981 года. Похоронен на «старом» кладбище поселка Верх-Нейвинск. Увековечен в «Книге Памяти участников Великой Отечественной войны Новоуральского городского округа».
Воспоминания
Ариадна Васильевна Возисова, урождённая Ежова (1933-2015) – старшая дочь, нехотя вспоминая о своём детстве, рассказывала следующие факты: «Пока шла война, ходили мы постоянно голодные. Всё хотелось свежего, душистого, пшеничного хлеба наесться. Не помню ощущения сытости. Но и от голода никто в нашей семье не умер. Считаю, что в какой-то мере нам даже было проще прокормиться. Спасением от голодной смерти было для нас то, что мы вылавливали из реки Зеи пресноводных ракушек с моллюсками. Их почему-то разрешалось собирать, а вот ловить рыбу, было запрещено. Но всё же мы рыбу ловили, но очень редко, было какое-то предписание на ограниченный рыбный улов. Отчётливо помню, как из ракушек вычищали мякоть, резали её и вместе с корнями лопуха (он заменял нам картофель) с добавлением крапивы, кислицы и других трав варили похлёбки. А потом эти ракушки были для нас и игрушками, вместо кукол: обвязывали их травой, листьями лопуха. В других случаях на ракушках рисовали, царапали стеклышком всякие кружочки, линии. Вот так и играли. Мать всякое придумывала, чтобы накормить нас. Ели почти всё, что росло. Дикую лесную зелень, грибы и ягоды собирали, сушили. Один из первых военных годов был самый голодный. Голодовали не только люди, но и животные. Однажды одичавшая от голода собака уволокла мою младшую сестру Идочку, видимо на растерзание. Взрослые кое-как, с палками и истошным криком её отбили, спасли. Тогда же по селу ночами в поисках наживы ходили с набегами по домам жителей беглые заключённые. Видимо днём они прятались в лесах, а ночью грабили. Жили мы в небольшой избушке, больше похожей на землянку, с низким потолком и малюсенькими оконцами. Совсем бедно. Но несмотря на это, в один из набегов на село залезли и к нам. Брать нечего, а то, что есть, если унесут тоже жалко. Самые простые вещи свою цену имели. Будь-то ложка или вилка, тарелка либо чашка – всё денег стоит. Мать от соседей уже знала о таких случаях, видимо готовилась, ночами не спала, кипяток держала при себе. Вор только на порог, его мать и ошпарит. Бандит орёт, ругается, но прочь бежит. Страшно, да делать нечего. Отец на фронте, кто за нас заступиться? А подобных случаев было немало». Ко всему выше описанному добавлю следующее свидетельство. После войны, когда в магазинах стал появляться пшеничный хлеб, Ариадна Васильевна на протяжении всей своей дальнейшей жизни никакой другой уже не покупала. Бывало, сидишь у неё за столом и спросишь: «А «чёрный» хлеб есть». А она в ответ, жёстко с характером скажет: «В своём доме такой хлеб не держу, не ем. Он мне войну напоминает. Кислый и горький он от слез… Тяжёлый».